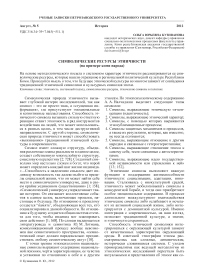Символические ресурсы этничности (на примере коми народа)
Автор: Кузиванова Ольга Юрьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
На основе методологического посыла о системном характере этничности рассматриваются ее символические ресурсы, которые нашли отражение в региональной политической культуре Республики Коми. Проводится мысль о том, что будущее этнической культуры во многом зависит от совпадения традиционной этнической символики и культурных символов эпохи.
Этничность, системный подход, символические ресурсы, этнические символы в политике
Короткий адрес: https://sciup.org/14751375
IDR: 14751375 | УДК: 316.34+39+7.045(=511.1)
Текст научной статьи Символические ресурсы этничности (на примере коми народа)
Символическая природа этничности вызывает глубокий интерес исследователей, так как символ – это не просто знак, а «сгущенная информация», где присутствуют эмоциональные и когнитивные напластования. Способность этнического символа вызывать сильную ответную реакцию ставит этничность в ряд инструментов воздействия на людей, что может использоваться в разных целях, в том числе деструктивной направленности. С другой стороны, символическая природа этничности может способствовать «выживанию» традиционной этнической культуры в современности.
Символ имеет сложную структуру, объединяя различные планы реальности в единое целое, создает собственную многослойную структуру, смысловую перспективу [2; 728]. Созданный символами мир настолько сложен и богат, что порой может определять каждый шаг жизни индивида. «…Способность к наделению смыслом дает индивиду возможность так далеко выйти за пределы социальной жизни, что он может найти себе место в символическом универсуме, даже в своем крайне уединенном существовании» [1; 158]. «Символический универсум упорядочивает также историю. Он связывает коллективные события в единое целое, включающее прошлое, настоящее и будущее. По отношению к прошлому создается “память”, объединяющая всех тех, кто социализирован в данной общности. По отношению к будущему создается общая система отсчета для того, чтобы индивид мог планировать свои действия» [1; 168]. По словам выдающегося литературоведа и семиотика Ю. М. Лотмана, коммуникационный процесс вообще невозможен вне семиотического пространства, «семиотический опыт должен парадоксально предшествовать любому семиотическому акту» [10].
С точки зрения этнопсихологии национальные символы выражают содержание национальной психики, черты характера нации, ее чувства и установки по отношению к себе и к другим этносам. По этнопсихологическому содержанию А. А. Налчаджян выделяет следующие типы символов:
-
1. Символы, выражающие этническую «я-кон-цепцию (идентичность);
-
2. Символы, выражающие этнический характер;
-
3. Символы, с помощью которых выражаются этносублимационные процессы;
-
4. Символы защитных механизмов и процессов, а также их результатов, которые, как известно, не всегда осознаются;
-
5. Символы, выражающие отношение к другим народам и связанные с гетеростереотипами;
-
6. Символы, выражающие отношение этноса к самому себе, тесно связанные с автостереотипами;
-
7. Символы, выражающие идею государственной независимости или стремления к ней» [13; 152].
Этнические символы выполняют важную функцию в поддержании жизнеспособности этничности: социализации, адаптации, инновации. Сталкиваясь с инокультурной средой, этничность может мобилизовывать символы в конкурентной борьбе, и тогда они приобретают особое эмоциональное содержание. В процессе длительного межкультурного взаимодействия этнические символы либо ослабевают и исчезают из активной социальной жизни, либо интегрируются с доминантной культурой. Именно интеграция с современностью, на наш взгляд, позволяет традиционной культуре, а значит, и этничности сохраняться.
Способность этнической символики интегрироваться с окружающей культурой зависит от качественных характеристик окружающей среды. В советской этнографии этносы рассматривались как сложные, динамические, исторически сложившиеся системы. С уходом примордиализма как ведущей методологии из этнологических исследований перестали быть актуальными и представления об этносе как со-
циальной системе. Вместе с тем в этнопсихологии, исторической этнологии особое значение придается именно системным функциям этносов. Так, в рамках исторической этнологии, пишет С. Лурье, понятие «этнос» употребляется, когда речь идет об особого рода социальной системе [11; 39]. Этносу присущи «поведенческие, коммуникативные, ценностные, социальнополитические модели и культурные элементы… в своей совокупности они образуют целостную структуру. Эта структура имеет несколько важнейших функций… способствует поддержанию стабильности этноса, определяет поведение различных частей этноса в кризисные эпохи и детерминирует процесс, который станем называть “самоструктурированием” этноса» [11; 40].
«Этнические общности, – пишет этносоциолог В. Г. Костюк, – являясь реальными, а не воображаемыми, сложными социокультурными образованиями, находятся в постоянном взаимодействии с окружающей природно-исторической средой и образуют этносферу более крупных социокультурных общностей – локальных цивилизаций» [6; 92]. Этническая общность рассматривается автором как субъект и объект цивилизационного процесса. Ю. В. Попков и Е. А. Тюгашев отмечают, что правомерно говорить об этносах как о разновидностях локальных человеческих сообществ [14; 99].
Этничность и традиционная культура находятся в тесной связи друг с другом. С одной стороны, этничность (как особая форма идентичности) как бы «приватизирует» традиционную культуру. С другой стороны, сама идентичность и границы отличительности вырабатываются в рамках традиционной культуры. Этничность демонстрирует потрясающие конструктивист-сткие возможности, но и имеет глубинную связь со своим традиционным и природным компонентом, а также некую иррациональную сторону, о которой говорят многие исследователи.
Понятно, что поле традиционности сужается под напором общества модерна. Но этничность продолжает жить в современности. Возникает вопрос: каковы ресурсы выживания этнич-ности? Если понимать ресурсы как способы утверждения и закрепления в современности, то можно выделить ресурсы политические, экономические, культурные, языковые. Те ресурсы, которые несут значительную символическую нагрузку и непосредственно оказывают влияние на эмоциональное восприятие, можно отнести также к символическим.
Два наиболее ярких символа в истории национально-государственного развития Коми – символ республики как национально-государственного образования, субъекта Федерации и символ коми языка как элемента культуры коми народа.
Трудно переоценить значение факта создания в 1921 году Коми автономной области в истории национального развития коми народа. По мнению финского исследователя С. Лаллуки, образование национальных автономий впервые привело к появлению для многих народов, в том числе и финно-угорских, «легитимных территориальных объектов идентификации», а их зарождающееся национальное чувство «получило определенные, хотя и ограниченные, институциональные выходы для самоутверждения» [9; 21]. Коми политическая элита сформировалась в 1920-е годы одновременно с этнополитической символикой. Самоопределение, автономия стали теми символами, которые выделили и объединили часть коммунистов, советских и партийных работников, интеллигенции в одну группу единомышленников, стали идейными концепциями для политической элиты Коми автономной области. Целое десятилетие символ коми автономии определял идейно-политический вектор деятельности региональной политической элиты. На протяжении 1920-х годов руководители Коми автономной области настойчиво добивались от центра повышения статуса коми автономии до республики, протестовали против вхождения автономной области в Северный край с центром в Архангельске [7]. Собственная концепция политической элиты в отношении развития автономии исчезла только вместе с усилением тенденции государственно-административного централизма, вхождением Коми автономной области в состав Северного края и началом кампании против «буржуазного национализма».
С начала 1930-х годов идейно-политическая активность региональных политических элит перестала вписываться в административнополитическую практику управления страной, а сами элиты подверглись репрессиям. Советская власть в лице партийного руководства страны легитимировала символы регионального политического развития в соответствии с собственными планами. Символом политических репрессий стал лозунг борьбы с контрреволюцией во всех ее проявлениях. Деятели финно-угорской культуры и науки, советские и партийные работники, отстаивавшие идеи автономии, стали объектом репрессивной политики; наметившиеся научные и культурные связи финно-угорских народов легко превращались в символы объединения советских финно-угорских автономий против советской власти, движения за отторжение этих территорий от СССР и присоединения к буржуазной Финляндии. По словам К. И. Куликова, дело Союза освобождения финских народов, «инспирированное в 1931 году и продолжающееся в различных вариантах на протяжении двадцати лет, является, с одной стороны, величайшей аферой властных государственных органов СССР, с другой – невиданной трагедией в жизни финских народов России: карелов, коми, марийцев, мордвы, удмуртов и финнов» [8; 7].
Новый этап советской истории концептуально закрепил миф «восхождения» коми от народа до нации: от народа, территориально разобщенного по губерниям, до обретения статуса автономной области, а затем – Коми Автономной Советской Социалистической Республики. Символически этот факт закреплялся в Конституциях СССР и Конституциях автономной республики. Так были приняты Конституции Коми АССР 1937 и 1978 годов. В них были закреплены признаки государственности, которые, впрочем, имели слабо выраженную этническую специфику.
Символизм этничности приобрел новую политическую актуальность в связи с процессом суверенизации национальных автономий в период распада Советского Союза. Цели национальных движений и региональных политических элит в этот период совпали: в Республике Коми съезд коми народа (действует с 1991 года) получил политическую поддержку региональных властей, а республиканская политическая элита – символическое укрепление легитимности своих требований в отношениях с федеральной властью. Этнические символы органично дополнили новый облик Республики Коми как субъекта Федерации.
Этнические мотивы сегодня закреплены в государственных символах республики: гербе, флаге, гимне, которые были приняты на X X сес с ии Верховного Совета Республики Коми 12-го созыва 6 июня 1994 года1. Вот как описывает предысторию создания гимна республики В. П. Марков, в то время – председатель Комитета возрождения коми народа: «Начало работы съезда (третий съезд коми народа, декабрь 1993 года. – О. К. ) было неожиданным для делегатов. Среди активистов национального движения было много разговоров о символах республики, необходимости принятия новой Конституции, герба и гимна. Художественный руководитель музыкального театра И. П. Бобракова, болеющая всем сердцем за свой народ, предложила за пару недель до съезда подготовить к исполнению, а затем и исполнить силами артистов театра песню Виктора Савина “Варыш пöз” (“Соколиное гнездо”), которая, по мнению ряда активистов, могла бы стать гимном республики… Спустя некоторое время именно мелодия песни Виктора Савина “Варыш пöз” стала победителем конкурса разработки проекта гимна республики» [12; 71–72].
Наиболее ярким этническим символом в политической сфере республики является коми язык. С приобретением в 1992 году статуса государственного коми язык получил важнейший ресурс для сохранения и развития в современных условиях. Финский ученый С. Сааринен пишет: «...язык не может сохраняться, если он не имеет в обществе официально признанного статуса. Языковой закон, определяющий равноправный статус русского языка и языка национального меньшинства, – это обязательное условие повышения престижа языка национального меньшинства и обеспечения прав носителей языка» [15; 66]. Однако низкий общественный статус коми языка снижает его значимость как ресурса для этнической группы.
В 2003 году Министерством по делам национальностей Республики Коми был инициирован этнолингвистический социологический мониторинг по выявлению современных проблем функционирования коми языка на территории республики. Социологические исследования по республиканской выборке были проведены в 2003 и 2006 годах2. Исследователей интересовало, как используется коми язык в повседневной жизни, как он воспринимается некоми населением, как оценивается его общественный статус всеми национальными группами населения.
Наиболее емким вопросом, в котором оценивается роль коми языка во всех сферах жизни, является вопрос о его общественной значимости. В сущности, респондентам предлагалось на основе собственных наблюдений в одном ответе оценить востребованность языка, его реальное функционирование и в целом отношение к нему населения республики. По результатам исследования 2006 года, 53 % русских и 69 % коми респондентов считают, что общественная значимость коми языка «недостаточно высокая» и «низкая». Респонденты также демонстрировали невысокий уровень готовности принимать обязательность изучения коми языка как государственного в школах.
Исследователями была выявлена довольно высокая степень лояльности местного населения к коми языку. Это относится как к коми группе (25 % населения по переписи 2002 года), так и к другим этническим группам. Например, в 2006 году 39,9 % коми респондентов говорили, писали и читали на коми языке, из них желали для своих потомков такого же уровня владения – 43,6 %; 23,3 % – говорили на коми, желали этого для детей и внуков – 36,2 %; только понимали коми речь – 16,6 %, желали этого – 18,5 %. То есть желаемый уровень владения для своих потомков у респондентов оказался более высоким, чем реальное владение языком на момент исследования.
Похожую ситуацию, и даже более неожиданную, мы видим с русскими респондентами. 34,3 % русских респондентов желали для своих детей и внуков активного владения коми языком, при этом реальный уровень активного владения коми языком в русской группе составлял 5,4 %.
В исследовании 2007 года3, проводившемся в рамках российско-финляндского проекта, отношение респондентов к коми языку проявилось через ответ на вопрос «Что означает для вас коми язык?» (см. таблицу).
Для коми респондентов коми язык – это прежде всего «мой родной язык» и «язык моих пред- ков». Об этом заявили более половины из числа опрошенных коми. Для русских и других национальностей коми язык – это «язык коми народа» (более 40 %) и «язык сельского населения» (более четверти ответивших). 16,4 % респондентов некоми национальности обозначили его как «язык моих предков». Позиции «чужой язык» и «ничего не обозначает» избрали 6–7 % русских и других респондентов, что в целом является низким показателем.
Ответ на вопрос
«Что означает для вас коми язык?», %
|
Ответ |
Коми |
Русские и др. |
|
1. Мой родной язык |
62,9 |
2,9 |
|
2. Язык моих предков |
54,8 |
16,4 |
|
3. Язык моего народа |
28,7 |
7,1 |
|
4. Государственный язык Республики Коми |
19,1 |
9,8 |
|
5. Язык коми народа |
20,6 |
43,1 |
|
6. Язык моих близких, друзей и знакомых |
24,6 |
13,0 |
|
7. Язык сельского населения Республики Коми |
28,3 |
27,1 |
|
8. Чужой язык |
0,4 |
6,9 |
|
9. Ничего не означает |
0,0 |
6,8 |
|
10. Затрудняюсь ответить |
0,4 |
3,9 |
‘ Сумма не равна 100 %.
Лояльность населения к коми языку объясняется многовековым сосуществованием бок о бок коми и русского народов, отсутствием серьезных межэтнических трений и конфликтов, интегративными способностями коми и русской культур. Коми язык, несомненно, сегодня является символическим элементом региональной субкультуры.
В то же время республиканская власть особенно не задается вопросами закрепления культурных символов коми народа: в городах мало памятников культуры и истории с этнической символикой, отсутствуют рестораны с национальной кухней, в торговле мало представлена продукция коми народного творчества. Недостаточно эффективно выполняются нормы закона о присутствии двух государственных языков (коми и русского) в названиях населенных пунктов, на дорожных указателях. По данным мониторинга, результаты которого озвучил министр национальной политики Республики Коми В. Коробов в октябре 2010 года, оформленных на двух языках указателей населенных пунктов в республике всего 4 %, улиц и площадей – 49 %, дорожных указателей – менее 1 % [5]. Региональная власть почти не использует факт складывания региональной идентичности и общности региональной субкультуры для решения государственных задач.
Однако продвигать этническую символику местные власти заставляют экономическая кон- куренция и рынок. Символы этничности продолжают жить в современной коми региональной субкультуре, становятся настоящими брендами. Города и районы Республики Коми извлекают из сокровищницы народной культуры те символы, которые придают территориям неповторимую специфику, делают их привлекательными для туризма и проведения культурных мероприятий. Многолетнее созидание социальных связей в рамках финно-угорского мира создало ряд культурных и имиджевых объектов на территории республики, таких как финно-угорские культурные центры (на региональном и федеральном уровнях). С 2010 года развертывается строительство финно-угорского этнопарка в окрестностях села Ыб Сыктывдинского района. Культурными символами становятся финно-угорские фестивали, праздники, конкурсы красоты. В марте 2011 года на празднике коми песни «Василей» В. Коробов, будучи уже министром культуры республики, заметил, что «“Василей” уже давно не достояние Усть-Куломского района. Это даже не бренд одной территории нашей республики. Это символ всей нашей коми земли» [3].
Характерная черта последнего десятилетия XX века – развитие этнополитических движений финно-угорских народов. Национальные движения стали организующей силой этнической мобилизации. В финно-угорских регионах России они сразу вышли на очень высокий организационный уровень. Сначала общественные движения оформились на региональном уровне – «Удмурт кенеш», «Марий ушем», «Съезд коми народа», «Съезд карельского народа» и др. Уже в мае 1992 года в Ижевске состоялся первый всероссийский съезд финно-угорских народов, на котором была учреждена Ассоциация финноугорских народов России. В декабре того же года в Сыктывкаре прошел первый Всемирный конгресс финно-угорских народов (второй – в Будапеште в 1996 году, третий – в Хельсинки в 2000 году, четвертый – в Таллине в 2004 году, пятый – в Ханты-Мансийске в 2008 году).
Финно-угорское движение, кроме местного и регионального уровней взаимодействия с государственной властью, обозначило два новых – федеральный и международный. В Саранске 19 июля 2007 года состоялась встреча президента России В. Путина, президента Финляндии Т. Халонен и премьер-министра Венгрии Ф. Дюрчаня с руководителями Консультативного комитета финно-угорских народов и Ассоциации финно-угорских народов России. На встрече В. Путин дал высокую оценку сотрудничеству финно-угорских народов и власти: «Международные и общественные организации финно-угорских народов всегда стремились к конструктивной работе с государством… И это, безусловно, их серьезный вклад в развитие финно-угорской культуры, языков, традиций, но в то же время и укрепление Российского государства» [16].
Международное финно-угорское сотрудничество хорошо вписывается в международную политику периода краха биполярной системы, поэтому символизм финно-угорского мира поддерживается и российской политической элитой: финно-угорский фактор становится фактором российской политики.
Этнические символы находятся в постоянном процессе сопоставления с символами эпохи. Если они совпадают, то могут стать ресурсами дальнейшего развития (усиления) этничности. Если существует конфликт на уровне символического восприятия (например, конфликт советской государственной и этнонациональной идеологии), то символы отражают конфликт, разрушение, потерю или сознательный отказ от этнической идентификации. Все это позволяет проследить существенную связь между традиционными культурами финно-угорских народов и современностью, которая «конструируется» многими акторами и в которой финно-угорские народы должны найти свое место.
В традиционном толковании хищная птица с полураскрытыми крыльями символизирует образ власти, верхнего мира. Лик женщины на груди птицы соответствует образу Зарни Ань (Золотой бабы), жизнедарующей богини, матери мира. Образ лося связан с идеей силы, благородства, красоты.
…Цветовое решение флага отражает географические особенности и природные богатства Республики Коми. Синий цвет символизирует бескрайние небеса, величие северных просторов.
Зеленый цвет – символ надежды и изобилия, условное обозначение таежных просторов Пармы – основного богатства и среды жизнедеятельности коми народа.
Белый цвет воплощает белизну и чистоту, девственную красоту земли Коми, ее принадлежность Северу.
Государственным гимном Республики Коми является мелодия, созданная на основе песни Виктора Савина “Варыш пöз” (“Соколиное гнездо”)» [4; 5–6].
Список литературы Символические ресурсы этничности (на примере коми народа)
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания: Пер. с англ. М.: Медиум, 1995. 323 с.
- Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия. Минск: МФЦП, 2002. 1008 с.
- В. Коробов: «Василей» уже не бренд одного района Коми [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.finnougr. ru/news/index.php?ELEMENT_ID=6102
- Государственные символы Республики Коми: официальное издание Государственного Совета Республики Коми. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2001. 80 с.
- Национальный колорит обойдется дорого//Республика. 2010. 28 октября [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazeta-respublika.ru/artide.php/32308
- Костюк В. Г. Новосибирская школа этносоциологии//Социс. 2009. № 3. С. 89-93.
- Кузиванова О. Ю. Политико-правовые вопросы создания и развития Коми автономии в 1920-х гг.//Национальные отношения в Коми АССР: история и современность. Вып. 1 (Труды ИЯЛИ КНЦ УрО АН СССР. Вып. 52). Сыктывкар, 1991. С. 35-45.
- Куликов К. И. Дело «СОФИН». Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 338 с.
- Лаллука С. Коми-пермяки и Коми-Пермяцкий округ. История, демографические и этнические процессы. СПб.: Европейский Дом, 2010. 334 c.
- Лотман Ю. М. Семиотическое пространство//Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек -текст -семио-сфера -история. М., 1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/lotman.ru.html
- Лурье С. В. Историческая этнология. М.: Аспект пресс, 1997. 446 с.
- Марков В. П. Возрождение в эпоху перемен. Съезды коми народа: документы и комментарии. Сыктывкар, 2011. 245 с.
- Налчаджян А. А. Этнопсихология. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 381 с.
- Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Предмет этносоциологии: опыт концептуализации//Социс. 2009. № 3. С. 93-101.
- С ааринен С. Язык и культура уральских народов//Финно-угорский вестник. Информационный бюллетень. № 2 (18). Йошкар-Ола, 2000. C. 65-66.
- Стенографический отчет о встрече с руководителями Международного консультативного комитета финно-угорских народов и Ассоциации финно-угорских народов России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://president.kremlin. ru/text/appears/2007/07/138219/shtml
- Финно-угорские народы России: вчера, сегодня, завтра. Сыктывкар, 2008. 272 с.