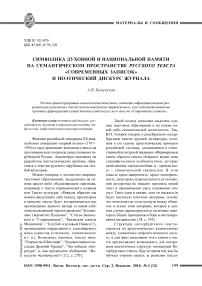Символика духовной и национальной памяти на семантическом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Автор: Каменская А.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструированы семантические комплексы, имеющие мифосимволические реп- резентации в различных текстах поэтов-эмигрантов «первой волны», и на этой основе выявлены признаки, формирующие семантическое единство русского текста «Современных записок».
Поэтический дискурс, русский текст, духовная и национальная памяти, мифологема, мифосимволическая репрезентация
Короткий адрес: https://sciup.org/14969475
IDR: 14969475 | УДК: 8142+070
Текст научной статьи Символика духовной и национальной памяти на семантическом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Феномен российской эмиграции XX века, особенно эмиграции «первой волны» (1917– 1930-е годы) привлекает внимание ученых на протяжении всего периода существования зарубежной России. Акцентируя внимание на разработке текстологических проблем, обратимся к текстам русского зарубежья как особой категории.
Можно говорить о достаточно широких текстовых образованиях, выделяемых на основе какого-либо объединяющего признака, например о тексте периодического издания или Тексте культуры: «Равным образом мы можем представить себе подход, при котором в качестве текста будут восприниматься все произведения данного автора за какой-либо четко выделенный отрезок времени (“Болдин-ское творчество Пушкина”, “Статьи Белинского в “Современнике”, “Крымские сонеты Мицкевича”, “Голубой и розовый Пикассо”), произведения определенного, улавливаемого нами единства (стилевого, тематического и т. п.). Возможны, наконец, тексты типа: “Творчество Шекспира”, “Художественное наследие Древней Греции”, “Английская литература” и, как предельное обобщение, “Искусство человечества”» [12, с. 270].
Такой подход позволяет выделять единые текстовые образования и на основе какой-либо семантической целостности. Так, В.Н. Топоров говорит о своеобразном «петербургском тексте» русской литературы, положив в его основу архетипические признаки российской столицы, сложившиеся в отечественной культурной традиции: «Формируемые таким образом тексты обладают всеми теми специфическими особенностями, которые свойственны текстам вообще, и – прежде всего – семантической связностью. В этом смысле кросс-жанровость, кросс-темпораль-ность, даже кросс-персональность (в отношении авторства) не мешают признать некий текст в принимаемом здесь толковании единым . Текст един и связан, хотя он писался (и будет писаться) многими авторами, потому что он возник где-то на полпути между объектом и всеми теми авторами, которые в данном случае характеризуются наличием некоторых общих принципов отбора и синтезирования материалов» [18, с. 194].
Структура «петербургского текста» строится на архетипических взаимосвязях между элементами мифопоэтического целого, а сам факт выделения этого единого текста предоставляет возможность для построения аналогичных структур: «концепция Петербургского текста, будучи принятой, как бы обучает умению видеть за разными текста-
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ми этого круга некий единый текст, ориентирует на анализ под углом зрения единства» [18, с. 336].
Подобный единый текст формируют и произведения эмигрантов «первой волны». Как отмечает современный исследователь В. Коровин, «ход истории пошел таким образом, что одна часть страны изгнала другую и пустила ее скитаться по чужим домам» [10, с. 10]. «Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам русской ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое – свободу» [20, с. 236], однако оказалась перед угрозой растворения в чужой национальной среде и потери собственной идентичности на чужой земле. В ситуации национального «рассеяния» русский язык оказался главным признаком принадлежности к ушедшей России. Печатное слово, воплощенное в газетах, книгах, журналах, было практически единственным действенным способом сохранения и передачи культурных традиций, средством объединения эмиграции.
Возникновение этого уникального, не имеющего аналогов ни в российской, ни в мировой культуре сообщества, создало предпосылки для выявления единства, условно определяемого как русский текст эмиграции, включающего в себя ряд семантических комплексов, ориентированных на осмысление российских событий 1917 года и во многом носящих мифопоэтический характер (см.: [15, с. 54–73]). По мнению А.В. Млечко, в данном случае «мы имеем дело с контекстуальным прочтением журнальных художественных произведений, с наличием единого семантического поля журнала, на пространстве которого можно (ре)конструировать некоторые ментальные механизмы построения картины мира в рамках культуры эмиграции первой волны» [14, с. 78]. В основе русского текста лежат значимые признаки – особое отношение к русскому языку, мифологизация «ушедшей» России и обращение к «русской» стороне Православия, формирующие «архивы» национальной и духовной памяти.
Русский текст охватывает собой большую часть эмигрантских текстов и обеспечивает целостность произведений таких авторов, как М. Цветаева, В. Смоленский, К. Бальмонт, Ю. Иваск, Вяч. Иванов, Д. Кнут и многих других, печатавшихся, в том числе, и на страницах «Современных записок» – ежемесячного общественно-политического и литературного толстого журнала эмиграции «первой волны», важнейшего издания эпохи, который в течение двадцати лет (с 1920 по 1940 год) играл роль культурного центра, объединявшего вокруг себя почти всех видных представителей русской интеллигенции в Париже, культурной столице русских изгнанников.
«Для того, кому довелось оказаться в эмиграции и вместе с другими соотечественниками пережить там настоящую одиссею, но одновременно – и свою личную одиссею, она прежде всего означает крайне болезненный разрыв, – пишет Елена Менегальдо, дочь русских эмигрантов “первой волны”. – Даже если тот мир, куда человек переселяется, должен обеспечить его работой и, быть может, сулит ему благосостояние, даже если этот мир гарантирует ему приют и спасение от возможных преследований, эмигранту не освободиться от тревожного чувства, порожденного расставанием с родным домом, пусть даже самым убогим, и страхом перед переменами. Мостик, который в том случае преодолевают, шлагбаум, приподнимающийся, чтобы вас пропустить, и граница, которую вы переступаете, открывают путь в незнакомое. И дело не только в получении “права на жительство”. Обретение французского гражданства не избавляет от страха, которому не всегда можно найти рациональное объяснение: ты становишься чужаком, как только попадаешь в новый мир, который ощущаешь как чужой, а значит – враждебный» [13, с. 9–10].
Об этом же пишет Георгий Адамович в книге «Одиночество и свобода»: «Вокруг был Запад, в частности Париж, блестящий и безразличный, с общим уровнем области творчества, до сих пор еще, после непрерывного четырехсотлетнего цветения, настолько высоким, что он и манил, и отпугивал, да и таил он в себе какую-то сухость и холодок, глубоко чуждые всему русскому» [2, с. 46].
«История эмиграции – это история похищения ее памяти, ее архивов» [13, с. 59], в том числе национальной памяти, главным «архивом» которой явился для изгнанников родной язык. Так, Елена Менегальдо отмечает, что
«новый исторический разрыв порождает у эмигрантов особое отношение к родному языку, который начинают чуть ли не культивировать, видя в нем квинтэссенцию всего русского, гарантию сохранения культуры и памяти: язык в буквальном смысле слова служит средством общения для русской диаспоры, помогает вырабатывать общие взгляды и не утратить свою идентичность» [13, с. 65].
« Родная речь певцу земля родная. // Ее дубравой песнь его шумит; // И нашептом дубравным ворожит // Небесных вдохновений мать земная », – говорит Вяч. Иванов в стихотворении «Слово – плоть» [9, c. 165]. Автор с нежностью рассказывает о том, что составляет его национальную память: « Неиссле-дима глубь заповедная . // В ночь, ощупью, свой корень луч стремит, – // И силой недр, в лозе струясь, гудит // Словесных гроздей сладость наливная » [там же, c. 165–166].
«Он из “Германии туманной” вывез остатки ее былого, вольного и широкого научно-поэтического вдохновения, добавив к нему свое собственное острое чутье и создав свой причудливый мир, где прошлое казалось неразрывной частью настоящего и будущего» [1, c. 237], – писал о Вяч. Иванове Г. Адамович. Так и здесь, в «наливной сладости словесных гроздей», соединяются времена – время старой России и эмигрантской земли.
По мысли Г. Адамовича, «все искусство и все дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и, вызвав из небытия исчезнувший мир, какой-то заклина-тельной волей водворить его на месте настоящего» [3, с. 80]. Так, соответствующие семантические комплексы находим в стихотворении К. Бальмонта «Русский язык»: «Язык великолепный, наш язык. // Речное и степное в нем раздолье, // В нем клекоты орла и волчий рык, // Напев, и звон, и ладан богомолья» [5, с. 175]. Автор с любовью вспоминает приметы старой России, которые хранит теперь лишь главный «архив» его национальной памяти: «В нем воркованье голубя весной, // Взлет жаворонка к Солнцу – выше-выше. // Березовая роща. Свет сквозной. // Небесный дождь, просыпанный по крыше. // Журчание подземного ключа. // Весенний луч, играющий по дверце. // В нем Та, что приняла – не взмах меча, // А семь мечей в провидящее сердце» [5, с. 175–176]. Стихотворение богато мифосимволикой (утраченного) русского рая, наполнено разнотипными «русскими» реалиями – в первую очередь, реалиями природного мира, воспроизведение которых возможно посредством обращения к национальной памяти: ровный гул широких вод, кукушка, молодицы у колодца, зеленый луг, веселый хоровод, бег зарницы в черном небе, костер бродяг за лесом на горе, светлячок, осенний лес, гроздь рябины, соха и серп, коса, салазки, рысак, пастуший рог и проч. Ряд завершает образ родного дома: «Родимый дом. Тоска, острее стали. // Здесь хорошо. А там – смотри-смотри. // Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали» [там же, с. 176].
Автор противопоставляет сакральное пространство, представленное образами «русских» реалий, профанному – враждебному, чужому: « Чу, рог другой », « Из тесноты идут в разброд дороги. // Как хорошо в чужих краях вздохнуть // О нем – там в синем – о родном пороге » [там же].
Мифосимволикой (утраченного) русского рая наполнено и стихотворение К. Бальмонта «Заветная рифма»: « Хореи и ямбы, с их звуком коротким, // Я слышал в журчаньи ручьев, // И голубь своим воркованием кротким // Учил меня музыке слов. // Качаясь под ветром, как в пляске, как в страхе, // Плакучие ветви берез // Мне дали плавучий размер амфибрахий, // В нем вальс улетающих грез. // И дактиль я в звоне ловил колокольном, // И в марше солдат анапест » [4, с. 174]. Заветной рифме автор учился « В саду, где светили бессмертные зори // Счастливых младенческих дней, // От липы до липы, в обветренном хоре, // Качались шуршанья ветвей » [там же, с. 174]. Это первозданное, райское бытие, в предыдущем стихотворении инкрустированное символикой дома, здесь – символикой сада, являет собой единый символический комплекс как образ ушедшей России, который в корреляции с «природной» символикой выступает в едином синкретическом комплексе, фундирующем мифологему Космоса .
В последних строках автор вновь обращается к тому, что составило главный «архив» его национальной памяти: «Я видел всю Землю от края до края. // Но сердцу всех сказок милей, // Как в детстве, та рифма моя голубая // Широкошумящих полей» [4, с. 175].
Специфика национальной памяти нашла свое воплощение в стихотворении В. Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным…»: « Не ямбом ли четырехстопным, // Заветным ямбом, допотопным? // О чем, как не о нем самом – // О благодатном ямбе том? » [19, с. 254], – вопрошает автор в первой строфе. Автор говорит о непоколебимости стихотворного размера, «рожденного» русским языком, о его твердости, прочности и несокрушимости ни в какие времена, о том, что « С высот надзвездной Музыкии // К нам ангелами занесен, // Он крепче всех твердынь России, // Славнее всех ее знамен » [там же]. Ходасевич сравнивает стихотворный размер со «славным Водопадом», по четырем сторонам которого «стихи российские кипят». И в этом стихотворении находим положительную символику, символику русского Космоса : « И чем сильней спадают с кручи, // Тем пенистей водоворот, // Тем сокровенный лад певучей // И выше светлых брызгов взлет – // Тех брыз-гов, где, как сон, повисла, // Сияя счастьем высоты, // Играя переливом смысла, – // Живая радуга мечты » [там же, с. 254–255].
Знаковыми являются последние строки стихотворения: « Ему один закон – свобода, // В его свободе есть закон » [там же, с. 255], – говорит В. Ходасевич о природе стихотворного размера, «рожденного» главным «архивом» национальной памяти поэта.
Таким образом, в результате актуализации мифологемы Космоса сохраняются «архивы» национальной памяти – родной язык и мифосимволика (утраченного) русского рая , а также обеспечивается семантическое единство русского текста .
Со страниц эмигрантской периодики поэты-эмигранты нередко обращались к христианским образам, потому как, по верному замечанию Елены Менегальдо, «после культуры и родного языка православие становится второй опорой для эмиграции» [13, с. 71].
Так, например, к Божией Матери обращается Ю. Терапиано в стихотворном цикле «В день Покрова»: «Как звезда над снежными полями, // В августе – над золотом садов, // В ночь весеннюю – над тополями // Русских сел и русских городов // Ты восходишь, наш покров незримый, // Матерь Божия!» [16, с. 193–194] – говорит автор в первой части цикла.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 14 октября (по новому стилю). В этот день верующие, вспоминая события тысячелетней давности, молятся о заступничестве, защите от всяких бедствий, ниспослании благодати. Этого праздника нет в календарях других православных церквей. Его можно считать русским, хотя зародился он не в России. В середине X века в Константинополе (Византия) во Влахернском соборе, где хранились риза Пресвятой Богоматери, ее омофор и часть пояса, появилась женщина, направляющаяся от Царских Врат. Рядом с ней шли Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов, окружал их сонм святых в белых одеждах, поющих духовные песнопения.
Божия Матерь молилась несколько часов, после чего подошла к престолу и стала молиться там о стоящем в храме народе. Затем Богородица сняла со своей головы блестящее покрывало и распростерла над предстоящими людьми. После ухода Богоматери покрывало стало невидимым, но осталась всем бывшим там ее благодать.
В течение веков праздник Покрова Божией Матери стал торжеством только в Русской православной церкви. Празднование Покрова было установлено в середине XII века святым благоверным князем Андреем Боголюбским и сразу принято всем народом, верящим, что Богородица простирает свой Покров над русской землей.
Обращаясь к Пресвятой Богородице, поэт просит спасти русскую землю: «… Любви Твоей // Над землею, некогда любимой, // Милость драгоценную пролей. // Дни проходят, тишиной томимы, // Гибели и смерти нет конца; // Ты, которой служат серафимы, // Ты, которой служат все сердца, // Милость ниспошли свою святую, // Молнией к стране моей приди, // Подними и оправдай такую, // Падшую, спаси и пощади » [там же, с. 194].
Отождествляя ушедшую Россию с душой, автор умоляет простереть покров и над душой поэта: « Матерь Божья, сердце всякой твари, // Вечная, святая красота! // Я молюсь – лишь о небесном даре, // О любви, которая чиста, // О любви, которая безгрешна, // О любви ко всем и ко всему, //
Я молюсь – и снова мрак кромешный // К сердцу приступает моему. // Милость ниспошли свою святую, // Молнией к душе моей приди, // Подними и оправдай такую, // Падшую – спаси и пощади » [17, с. 195].
К образу святой Марии обращается на страницах «Современных записок» поэт и монахиня Е. Кузьмина-Караваева, известная также как мать Мария. В минуты искушений, когда прежняя страстная («языческая») жизнь вырывается из глубины «родовой памяти» и грозит закружить ее в своем вихре, Кузьмина-Караваева прибегает к помощи Девы Марии, сумевшей одолеть даже «древнего змия», и в Ней обретает спасение своей смятенной души от хаоса земной жизни: « Не засыпает тяжелая кровь, // Ветер вздымается острый и резкий, // Древняя родина вспомнилась вновь, // В воздухе вихри, и трубы, и плески. // Нет, не насытиться, – только хлебнуть // Хаоса пьяную, мутную брагу. // Древней бессмыслицы пьяная жуть // Тянет и мчит к роковому оврагу. // Только коснуться мне. Только припасть // К недрам, поющим про вечную смену. // Кружатся вихри. Вздымается страсть. // Это дорога к последнему плену. // Если же хочешь и можешь спасти, // Ты, одолевшая древнего змия, // Душу сметенную перекрести // Тихой рукою, Мария » [11, с. 173].
Образ Божией Матери создает В. Злобин в стихотворении «Только о правде, о ней одной…». Называя святую « неизменной, живой, земной », « кроткой Марией », « вестницей скромной », которая « Снова сходит нас утешать, // Скользящих тропою темной » [7, с. 209], поэт уверен, что « Настал бы для нас последний час, // И тьма бы все поглотила » [там же, с. 210], если бы « погас пламень » « этих глаз », в которых – « вечная сила » [там же]. Ведь хаос текущих дней приводит к тому, что уже « Меркнет Ее золотой венец, // Во мраке подземном тает. // Все тише сердце, сейчас конец. // И только глаза сияют » [там же].
Обращение к Святой Терезе Младенца Иисуса – Терезе Лизьеской представляет собой стихотворение З. Гиппиус «Therese de l’Enfant Jesus»: «Девочка маленькая, чужая; // девочка с розами; мной невиденная. // Ты знаешь все, ничего не зная, // тебе знакомы пути неиденные, // приди ко мне из горного края, // сердцу дай ответ неспокойному… // Милая девочка, чужая, // приди к неизвестному, недостойному» [6, с. 207–208].
Therese de l’Enfant Jesus (фран.) – Святая Тереза Младенца Иисуса, так называемая «маленькая Тереза» (Мари-Франсуаза-Тереза Мартен), канонизированная в том же 1925 году, когда стихотворение было напечатано в «Современных записках», французская монахиня-кармелитка, чрезвычайно высоко почитавшаяся В. Мережковским и З. Гиппиус. Зинаида Гиппиус полагала, что именно ей сейчас поручена судьба России, именно она сможет спасти тонущую Атлантиду. Гиппиус любила Терезу Ли-зьескую за ее простоту, за образ совершенной, неизъяснимой чистоты и прелесть девочки-полуребенка: « Она не судит, она простая, // Желанье сердца она услышит. // Розы ее такою чистою, // такою нежною радостью дышат… // О, будь со мною, чужая, родная, // роза розовая, многолистая… » [там же, с. 208].
Поэт Вяч. Иванов одно из своих стихотворений посвящает митрополиту Филиппу, когда-то проводившему службы « В домашней церковке, похожей на застенок, // Где старина в один окрасила оттенок // Золотокарие иконостас и свод » [8, с. 166].
Митрополит Московский и всея Руси Филипп (до пострижения в монахи в 1537 году – Федор Степанович Колычев) принял этот сан в 1566 году, повинуясь воле царя Иоанна IV. Святитель Филипп заступался за невинных людей, ставших жертвами опричнины, и обличал правителя. Не страшили митрополита ни угрозы, ни попытки опорочить его имя. Неугодного митрополита сослали в Тверской Отрочь монастырь, а в 1569 году он принял мученическую кончину от руки Малю-ты Скуратова и был погребен в этом монастыре за алтарем соборной церкви. В 1652 году канонизирован Русской православной церковью.
Поэт воссоздает образ святителя XVI века: « На черном, меж кадил, златится Дух крылатый; // А посреди стоит, лилово-полосатой // Окутан мантией, старик; волною с плеч // Струится серебро, и лал в мерцаньи свеч // Переливается на митре светозарной » [там же, с. 167]. И далее: « И грезится – в дыму встает из мглы алтарной, // Владыке сослужа бесплотным двойником, // Святого предка дух, хранящий род и дом; // Сквозит, влача в крови руно митрополичье, // Филиппа древнего прозрачное обличье » [там же].
Образы Пресвятой Богородицы, Терезы Лизьеской и Святителя Филиппа можно рассматривать в качестве символических референтов мифологемы Космоса , а также репрезентантов духовной памяти потерянной родины.
Итак, реконструкция семантических комплексов, имеющих мифосимволические репрезентации в различных поэтических текстах, позволила обнаружить признаки, формирующие единство русского текста «Современных записок».
Список литературы Символика духовной и национальной памяти на семантическом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
- Адамович, Г. Вячеслав Иванов и Лев Шес-тов/Г. Адамович//Адамович, Г. Одиночество и свобода: очерки/Г. Адамович. -СПб.: Азбука-классика, 2006. -С. 235-252.
- Адамович, Г. Одиночество и свобода/Г. Адамович//Адамович, Г. Одиночество и свобода: очерки/Г. Адамович. -СПб.: Азбука-классика, 2006. -С. 20-51.
- Адамович, Г. Шмелев/Г. Адамович//Адамович, Г. Одиночество и свобода: очерки/Г. Адамович. -СПб.: Азбука-классика, 2006. -С. 71-83.
- Бальмонт, К. Заветная рифма/К. Бальмонт//Современные записки. -1924. -№ 22. -С. 174.
- Бальмонт, К. Русский язык/К. Бальмонт//Современные записки. -1924. -№ 22. -С. 175.
- Гиппиус, З. Therese de lEnfant Jesus/З. Гиппиус//Современные записки. -1925. -№ 23. -С. 207-208.
- Злобин, В. «Только о правде, о ней одной…»/В. Злобин//Современные записки. -1933. -№ 53. -С. 209-210.
- Иванов, Вяч. Митрополит Филипп/Вяч. Иванов//Современные записки. -1937. -№ 65. -С. 166-167.
- Иванов, Вяч. Слово -плоть/Вяч. Иванов//Современные записки. -1937. -№ 65. -С. 165-166.
- Коровин, В. Дон-Аминадо как зеркало русской эмиграции/В. Коровин//Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. -М.: Вагриус, 2000. -379 с
- Кузьмина-Караваева, Е. «Не засыпает тяжелая кровь…»/Е. Кузьмина-Караваева//Современные записки. -1929. -№ 39. -С. 173.
- Лотман, Ю. М. Структура художественного текста/Ю. М. Лотман//Лотман, Ю. М. Об искусстве/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПб, 1998. -С. 14-288.
- Менегальдо, Е. Русские в Париже. 1919-1939/Е. Менегальдо. -2-е изд., доп. рис. А. Ремизо-ва «Из Достоевского». -М.: Кстати, 2007. -288 с.
- Млечко, А. В. Иеротопия: построение сакральных пространств в романе Б. К. Зайцева «Дом в Пасси» (по страницам «Современных записок»)/А. В. Млечко//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 8, Литературоведение. Журналистика. -Вып. 7. -2008. -С. 78-94.
- Млечко, А. В. От текста к тексту. Символы и мифы «Современных записок» (1920-1940)/А. В. Млечко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -574 с.
- Терапиано, Ю. В день Покрова («Как звезда над снежными полями…»)/Ю. Терапиа-но//Современные записки. -1934. -№ 55. -С. 193-195.
- Терапиано, Ю. В день Покрова («Матерь Божья, сердце всякой твари...»)/Ю. Терапиано//Современные записки. -1934. -№ 55. -С. 193-195.
- Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное/В. Н. Топоров. -М.: Издат. группа «Прогресс» -«Культура», 1995. -624 с.
- Ходасевич, В. «Не ямбом ли четырехстоп-ным…»/В. Ходасевич//Современные записки. -1939. -№ 69. -С. 254-255.
- Яров, С. Георгий Адамович: от одиночества к свободе/С. Яров//Адамович, Г. Одиночество и свобода: очерки/Г. Адамович. -СПб.: Азбука-классика, 2006. -С. 235-252.