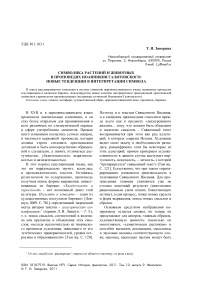Символика растений и животных в проповедях Иоанникия Галятовского: новые тенденции в интерпретации символа
Автор: Заворина Татьяна Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются изменения в системе символов церковнославянского языка, вызванные процессом секуляризации и влиянием барокко. Анализируются новые способы интерпретации традиционной христианской символики украинскими проповедниками (на примере сочинений Иоанникия Галятовского).
Символ, метафора, художественный образ, церковнославянский язык, проповедь, барокко
Короткий адрес: https://sciup.org/14737625
IDR: 14737625 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Символика растений и животных в проповедях Иоанникия Галятовского: новые тенденции в интерпретации символа
В XVII в. в церковнославянском языке произошли значительные изменения, и он стал более открытым для проникновения в него различных по стилистической окраске и сфере употребления элементов. Прежде всего изменения коснулись устных жанров, в частности церковной проповеди, которая должна строго следовать христианским догматам и быть непосредственно обращенной к слушателю, а значит, отличаться доступностью, убедительностью, выразительностью и назидательностью.
В этот период секуляризация языка, как это ни парадоксально звучит, коснулась и проповеднических текстов. Оставаясь религиозной по содержанию, проповедь получила новые формы выражения, заимствованные из барокко. « Загадочность и курьезность – вот возможный девиз этой культуры. Изумлять и удивлять – один из художественных постулатов барокко» [Лев-шун, 2009. С. 781], определивший творческий метод авторов текстов – аллегорическую амплификацию 1 (термин Л. В. Левшун. – Т. З. ), т. е. поиск смыслов, соответствий в явлениях или предметах и объяснение этих смыслов, «исходя исключительно из творческого произвола художника, зависящего от его эстетических приверженностей, уровня остроумия и образованности» [Там же. С. 120].
Поэтому и к текстам Священного Писания, и к символам проповедник относится прежде всего как к предмету «дискурсивного анализа… тому, что должно быть объяснено и наделено смыслом… Священный текст воспринимается при этом как ряд аллегорий, в которых сокрыта Истина. Художник видит свою задачу в необходимости разгадать, расшифровать хотя бы некоторые из этих аллегорий, причем критерием художественности в данном случае выступает виртуозность, искусность, – легкость, с которой “препарируется” священный текст» [Там же. С. 121]. Естественно, что при таком «препарировании» появляется произвольность в толковании Священного Писания. Для проповедника главным становится уже не столько конечный результат (невозможно рациональным умом понять божественную истину), а сам процесс, поиск новых средств и форм выражения, поиск новых смыслов и образов.
Основным средством изображения по-прежнему остается символ, но теперь он представляет для авторов, главным образом, художественную ценность: насколько он многозначен, «семантически растяжим» и способен вызывать ассоциации, смысловые и звуковые нюансы соответствующего слова; наконец, насколько частым может быть его употребление в текстах. Именно частота определяет статус традиционных, или ядер-ных, основных образов – центр символической системы, и вторичные, вспомогательные – ее периферию. Символ как бы рассыпается в текстах на множество смыслов; раскрывается, обновляясь через метафоры, сравнения, сопоставления, иногда создавая яркую символико-метафорическую картину. Относительно церковной проповеди не совсем корректно говорить о метафоре, так как «…то, что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом… Опираясь по преимуществу на богословские учения… символы вносили в литературу сильную струю абстрактности и по самому существу своему были прямо противоположны… метафоре… сравнению, основанным на метко схваченном сходстве… на реально наблюденном… на живом и непосредственном восприятии мира [Лихачев, 2001. С. 149]. Но в проповедях XVII в. отмечается тенденция к метафо-ризации символов, т. е. объяснению символических значений слов на основании реальных свойств предметов.
Проповедники стараются работать в стихии символа: за словом сохраняется духовный смысл, который прочитывается по Священному Писанию. Но сами авторы часто разрушают символическую целостность слова, снижают семантику символа, переводят его из мира «верхнего», мира идей, в мир «дольний», мир предметов. Это происходит из-за повышенного интереса ко всему второстепенному, неглавному: образу, значению, источнику. Все это характерно и для творчества Иоанникия Галятовского. Сборник его проповедей «Ключ разумения» был издан в Киеве в 1659 г. (подробнее см.: [Заворина, 2008. С. 193–210]). В 1660 г. в Киеве вышли приложения к нему – «Казаня, при-данныи до книги Ключ разумения» и «Наука короткая, албо способ зложення казаня» и «Чуда пресвятой Богородици некоторые». Позднее эти книги были объединены в одну и изданы во Львове в 1663, 1665 гг.
Источником для нашего исследования послужило одно из таких немногочисленных изданий, хранящееся в отделе редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки (Новосибирск). Оно представляет собой объединение вышеуказанных сочинений Галятовско-го, изданных в Киеве в 1659, 1660 гг. и собранных в одну книгу. К сожалению, она неполная – нет первого и второго Слов на Рождество Иисуса Христа, не хватает листов и в Слове на Обрезание Господне. Это одна из так называемых храмовых книг – ранее она передавалась в пользование храму, о чем свидетельствует соответствующая надпись в книге.
Н. Ф. Сумцов выделяет Галятовского из всех современных проповедников «по умственным дарованиям и начитанности»; «…луч-шие литературные произведения принадлежали его перу. В Галятовском Южная Россия нашла талантливого и ученого деятеля, бойца за православие» [1884. С. 2].
Проповеди Иоанникия Галятовского являются школьно-схоластическими по типу и продолжают западную традицию. В них ярко отражены следующие черты барокко:
-
• «переизбыточность», усложненность формы за счет обильного иллюстративного материала;
-
• цитирование Священного Писания и святоотеческой литературы почти наравне со светскими источниками;
-
• интерес ко всему новому и необычному (установка автора – потрясти воображение слушателя);
-
• повышенное внимание к вторичным, несущественным деталям, признакам, образам и значениям;
-
• неожиданное сочетание удаленных, а порой и чуждых по своей природе слов, образов и представлений;
-
• связь в пределах одного текста или фрагмента по отдаленным признакам, иногда по авторской ассоциации;
-
• многоуровневое восприятие текста. Выделение четырех смыслов – «литерального» (буквального), «морального» (назидательного), «аллегоричного» и «анагогично-го» (традиция идет от Августина).
Галятовский не ставит целью пересказать евангельское событие – это и так всем хорошо известно. Он стремится найти и объяснить что-либо новое, отсюда его интерес ко всему малозаметному, второстепенному, необычному. Поэтому он часто обращается к «Физиологу» 2 – энциклопедическому сборнику, рассматривающему реальные и вымышленные свойства настоящих и мифических животных с точки зрения нравоучительного смысла. Из «Физиолога» он заимствует символику животных, а символику растений – из ветхозаветных и новозаветных притч.
Мы проанализировали две группы символов с первичными значениями: 1) «растения» (и их «части») и 2) «животные» («птицы», «рыбы», «насекомые» реальные и вымышленные). Объем картотеки составил 75 символических единиц. Их отбор обусловлен популярностью и частотой употребления, традиционностью, многозначностью и семантической растяжимостью образов.
Все символические образы (здесь более правильно определить их как символикометафорические) мы разделили на несколько групп по способу интерпретации автором символических значений.
-
I. Традиционные символические образы. Конкретные значения реализуются в контексте, иногда автор намеренно «сталкивает» полярные значения; обыгрывается полисемия символов. К таким единицам относятся: баранок , виноград , виноградная гроздь , виноградная лоза , голубь , горлица , зерно , колос , конь , лев , лилия , маслина , овча , олень , олива , осел , осленок , пшеница , роза , телец , терние , уж. Символы агнец , купина неопалимая выступают только в номинативной функции, не получая художественного переосмысления. Это «идеальные» символы, они интертекстуальны, суггестивны, поэтому не требуют раскрытия. Символы ночной вран на нырищи , неясыть пустынная взяты из «Физиолога». У Галя-товского они однозначны и в таком словосочетании обозначают Иисуса Христа (ср. Пс. 101 : 7).
-
II. Традиционные символические образы, в раскрытии которых автор делает акцент на периферийное значение: вол , дуб , кедр , кипарис , орел , саранча , финик.
-
III. Редко употребляемые символические образы, взятые из Священного Писания и «Физиолога». Их «экзотичность» открывает простор для творческой фантазии проповедника: велиярыб , гипокентавр , еж , ихневмон , крокодил , муравей , паук , сирен , хирогрил , ботян , моноцидиат , алцион , порфирион , ха-радрий.
-
IV. Новые оригинальные символические образы:
-
1) созданные в результате контаминации: гак на яблоне , лев ( пантера ), цвет сельный ;
-
2) созданные на основе лексем, встречающихся в Священном Писании только в номинативной функции, в прямом значении: воробей , лен , тополь , рута ;
-
3) не встречающиеся в Священном Писании: гелиотропион , лавр.
Рассмотрим способы интерпретации символов автором.
Во втором Слове на Покров Богородицы эпиграфом взята строка из Апокалипсиса: «Даны были жене два крыла» (Апок. 12 : 13–14). Во вступлении Галятовский подробно пересказывает этот фрагмент и дает пояснения. Центральный образ, вокруг которого строится проповедь, – Дева с двумя крылами. Галятовский приводит традиционное символическое объяснение: змей – ‘дьявол’, дева – ‘церковь’, два крыла – 1) ‘два завета’, 2) ‘Илия и Енох’ (Апок. 11 : 3–4). Относительно событий Нового Завета автор дает толкование: змей – «царь Ирод», дева – ‘Богородица’, два крыла получают метафорическое значение – это ‘совокупность добродетелей’. Используя прием амплификации, Галятовский называет двенадцать птиц, у которых взято по перу (добродетели) для крыльев Девы.
В числе двенадцати птиц названы пять реальных и семь мифических. Их количество имеет символическое значение, а выбор птиц произвольный. Проповедь построена на сопоставлении свойств птиц и нравственных качеств Богородицы. В таблице перечислены наименования птиц, названы признаки, по которым проводится сравнение, и указан источник мотивации.
Как видим, Дева сравнивается с птицами не по внешнему сходству, а по внутренней сущности. Это глубинное сравнение по сути, по поступкам, внешние признаки совершенно игнорируются [Лихачев, 2001. С. 176–184]. Признаки в основе сравнения ассоциативны, и для большей ясности признак может быть эксплицирован в тексте. Например: Маетъ прчтад Два в крылах сво- иХ перо лебединое, жалосно спЭваетъ,
лебедь пред смертю своею и прчтад Два пред смертю своею была жалоснад, же Ха Сна своего не шглддала и плакала. Так же «жалостно плакал» и благоразумный разбойник на кресте (Лк. 23 : 42). Маетъ прчтад Два в крылах
|
Названия птиц |
Упоминание |
Мотивация символического значения |
Признак в основе сравнения |
||
|
Св. Писание |
«Физиолог» |
Св. Писание |
«Физиолог» |
||
|
* Орел |
+ |
+ |
– |
– |
«вознес дитя на алтарь» |
|
Гриф ** |
+ |
+ |
– |
+ |
«двойственная природа» |
|
*** Лебедь |
+ |
+ |
– |
+ |
«плачет перед смертью» |
|
Журавль |
+ |
+ |
– |
+ |
«мало спит», «держит в ноге камень» |
|
Ботян |
– |
+ |
– |
+ |
«питает родителей» |
|
Феникс |
– |
+ |
– |
+ |
«возрождается после смерти» |
|
Голубь |
+ |
+ |
+ |
+ |
«несет мир, покой» |
|
Ласточка |
+ |
+ |
– |
+ |
«открывает очи слепым» |
|
Моноциди-ат |
– |
+ |
– |
+ |
«не касается земли» |
|
Алцион |
– |
+ |
– |
+ |
«устраивает гнездо на море» |
|
Порфирион |
– |
+ |
– |
+ |
«целомудрие» |
|
Харадрий |
– |
+ |
– |
+ |
«отворачивается от грешных» |
* Символическое значение мотивировано автором по историческим хроникам.
** Грифом называется в Библии морской орел; в «Физиологе» это мифическое существо, сочетающее черты птицы и льва.
*** По «Физиологу», лебедь сладко поет перед смертью. Но не плачет. Плач лебедя нигде не отмечен в Священном Писании; у античных авторов упоминается «сладкая песнь» перед смертью [Библейская энциклопедия, 1991. С. 424]. Образ плачущего лебедя либо восходит к народной традиции, либо это вымысел автора.
своих перо Фенэxово, Фенэxъ uмерши знову встаетъ зъ мр\твыхъ, и прчтаz Два\ uмер-ши... встала зъ мр\твыхъ. Так же «встала из мертвых» и Тавифа, воскресшая за свое ми- лосердие (Деян. 9 : 36–39).
Иногда связь между сравниваемыми объектами вообще отсутствует. Она абстрактна, невещественна, ее невозможно объяснить логически. Например, объединяющей может быть просто двойственность. Общий признак в основе сравнения Девы и грифа -‘двойственная природа’. Гриф мает въ собэ двоzкую натуру, спереду подобный есть Орлове а с тылу подобный лвови, и прчCтаz Два дво-zкую мает натуру, материнскую и девическую.
Желание удивить, потрясти слушателя, показать что-то необычное прослеживается на протяжении всей проповеди. Символические значения названий реальных птиц объясняются не по Священному Писанию, а по «Физиологу» и историческим хроникам.
Например, символическое значение слова орел Галятовский мотивировал историческим анекдотом. Орел – один из наиболее часто употребляемых символов: символ евангелиста Иоанна; издревле это символ могущества и силы (Иез. 17); гордости и надменности (Иер. 59 : 16); скоротечности и тщетности (Притч. 23 : 4–5). Внешний облик орла, быстрота полета и другие его качества часто используются в метафорических сравнениях в Библии. По «Физиологу», орел имеет 7 символических значений, главные из которых – символ Иисуса Христа, крестившегося в Иордане, и символ обнов- ления души. Галятовский сравнивает орла и Деву Марию, не используя ни одного из традиционных значений, не привлекая ни одного традиционного контекста! Он приводит историю об императоре Аврелиане, которого в младенчестве орел взял из колыбельки и принес на алтарь, так и прчтаz Два, що орелъ uчинилъ, беретъ тыи дэти, людей ши-рыХъ (простых), правдивыхъ, покорны^, не-гнэвливыхъ и провадит ихъ до нба. Работу с образом автор проводит в четыре этапа, которые соотносятся с четырьмя смысловыми уровнями: рассказ о птице («буквальный»); сопоставление с Богородицей («аллегоричный»); отсылка к текстам Нового Завета, обычно цитируются широко известные строки («анагогичный»); назидательное обращение к пастве («моральный»).
Моральный смысл – важнейшая составляющая проповеди. При этом проповедник не должен довести слушателя до отчаяния, нужно оставить надежду на спасение.
Образы птиц могут ассоциативно вызывать появление вторичных символических образов, например:
журавль - держащий камень, мотивирует появление символа камень краеугольный -‘Иисус Христос’ (Мф. 21 : 44, Лк. 20 : 18);
голубь - древо оливное - ‘Иисус Христос’;
ласточка - цвет сельный - ‘Иисус Христос’;
алцион – море – ‘мир’.
Галятовский достаточно вольно, насколько это позволяет жанр церковной проповеди, работает с художественным образом. Он создает собственные образы, которые якобы встречаются в Священном Писании, и даже приводит несуществующие цитаты. Поясним на примере.
В сюжете о потопе голубь , принесший Ною веточку оливы, символизирует мир и покой. Галятовский сравнивает Богородицу с голубем , а Иисуса Христа с веткой оливы на основании общего признака – ‘приносят мир’. В подтверждение символического значения оливы автор приводит строчку из Псалтири: «Я как маслина плодовитая». Но символом Иисуса Христа был образ маслины зеленеющей ; именно он указан и в Псалтири: Я маслина вечнозеленая (Пс. 51 : 10) и в Книге пророка Иеремии (Иер. 11 : 16).
Ласточка , по «Физиологу», травкой полевой хеледонией открывает очи слепым. Автор, сопоставляя Богородицу с ласточкой , а Иисуса Христа с зелием (полевой травкой), говорит, что Дева тым зЭлием (‘Христом’) людемъ очи улэчила телесные и дУшевные . Он называет Христа цветом сель-ным : азъ цвЭт селный , я квЭт полный (полевой?). Цвет сельный - в Библии символ скоротечности бытия (Пс. 102 : 15). А образ цветка полевого , не сеянного никем, прочитывается по Священному Писанию иначе: Я нарцисс Саронский, лилия долин (Песн. 2 : 1–2).
В конце проповеди слово крылья приобретает символическое значение ‘покров’. Создается образ небесной девы-птицы , собирающей своих птенцов (‘людей’) под крылья (Мф. 23 : 37, Лк. 13 : 34), которые ей даны за ‘добродетели’ ( перья ).
Новый символический образ у слова лен возникает в результате амплификации (переход от рода к виду) в первом Слове на Успение Пресвятой Богородицы. Эпиграфом к проповеди взяты слова из Псалтири (Пс. 44:10). Далее в проповеди Галятовский перечисляет, из каких ниток сшита риза Богородицы: льняных, шерстяных, шелковых и золотых. Каждая нитка символизирует определенную добродетель, например, льняная – терпение, шерстяная – невинность и чистоту, шелковая – покорность, золотая – мудрость. Слово лен неоднократно встречается в Священном Писании (Исх. 9 : 31; Лев. 13 : 47; Прит. 7 : 16; в Откр. 15 : 6 лен – символ невинности и чистоты). Признаки, которые могли быть положены по Священному Писанию в основу сравнения лен - добродетель: ‘дорогой’, ‘чистый’, ‘светлый’. Но Галятовский, объясняя символическое значение слова лен , использует наблюдения из реальной жизни, поэтому лен означает у него ‘умертвение плоти и терпение’. На основании этих признаков и осуществляется сравнение с Богородицей: Лен значит uмертвение, и терпение бо егw мочатъ, су-шатъ, трутъ, бьютъ, мэла и прчCтаz Два uмертвение... и терпение... Это оригинальный авторский образ, символическое значение мотивировано свойствами самого предмета. Такой интерес к конкретным бытовым деталям разрушает, снижает символ.
Оригинальные авторские образы в наименовании цветов мы встречаем в первом Слове на Святителя Николая. Эпиграф к проповеди взят из Книги Ездры (3 Езд. 5 : 36). Эти слова напоминают слушателю о невозможности понять человеческим умом божественный промысел (3 Езд. 5 : 40). Вся проповедь – это развернутое объяснение автором библейской цитаты с привлечением многочисленных сравнений, аналогий, образов. Толкование каждой строки является законченной самостоятельной частью. И в конце каждой как обобщение, как вывод раскрывается аллегорический (духовный) смысл строки в сопоставлении с трудами святителя Николая. Так, в толкование 3-й строки Озелени сухие цветы (символическое значение цветы - ‘люди’: «Цветы явились на земле» (Песн. 2 : 12) автор вводит дополнительные образы - названия цветов: лилии, розы, руты, гелиотропа. И порядок перечисления образов, и контекст пояснения, раскрывающий их переносное значение, Галятовский дает «по нарастающей»: от старого традиционного к новому ориги- нальному.
Лилия в тексте означает девственников. Традиционно лилия считалась символом Троицы и Богородицы, Иисуса Христа и Церкви. Лилия между цветами первая (3 Езд. 5 : 23–28). Этот признак положен в основу сравнения: бо лилэz межи всэми квэтами естъ паном... Квэтами лилэwвыми сутъ тые люде, которыи пануют над тэлом ...
Роза означает людей, хранящих веру, шипы и тернии - людей неверных, порочных: Квэтами рожаными суть тыи люде, которыи живутъ межи людми невэрными и злыми, еднакъ сами заховуютъ вэру православную ... В христианской культуре символ розы был очень многозначным.
Рута означает людей, борющихся с грехами. Рута в западно-европейской тради- ции – символ печали, ассоциировалась с раскаянием, поэтому ее считали травой милосердия. Руту называли «богородичной» травкой, верили, что она отгоняет злых духов. Образ руты скорее народный, чем евангельский: Квэтами рутzными суть тыи люде, которыи звитzжаютъ uжовъ пекель-ныхъ непріzтелей душныхъ... Слово рута встречается в Священном Писании один раз в номинативной функции (Лк. 11 : 42).
Подсолнух (в тексте Гелиотропион) означает людей послушных, потому что Геліwтропіwнъ... завше схиляэтсz до Сл\нца и ему конформуэтсz. Символическое значение гелиотропа Галятовский объясняет свойствами растения. Такого образа нет в Евангелии. Но он был популярен у юго- западных проповедников, мы его встречаем и у И. Максимовича, и у А. Радзивиловско-го. Далее автор создает на его основе развернутую символико-метафорическую кар- тину.
Первое Слово на Святителя Николая отличается сильно усложненной формой, оно перегружено многочисленными образами, которые совершенно не связаны в тексте друг с другом, но по воле автора (это его видение) объединены одной общей идеей – заботой человека об обретении царствия небесного. Проповедь носит эсхатологический характер. Вообще, тема страшного суда, конца света свойственна барочной проповеди и часто встречается у Галятовского.
Во вступлении автор, желая потрясти воображение слушателей, вводит необычные образы, никак не связанные с эпиграфом, в которых, по его мнению, отражена идея радения о царствии небесном. Это образы муравья, хирогрила, саранчи и паука. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых…» (Притч. 30 : 24–28). Их необычность объясняется спорадическим употреблением в Священном Писании. Это периферийные символы, а у традиционного многозначного символа саранча автор раскрывает именно периферийное значение.
Муравей в Священном Писании встречается дважды как символ трудолюбия (Притч. 6 : 6; 30 : 25). Символ муравья выражен у И. Галятовского лексемой мровка. Трудолюбие муравья, его забота о хлебе на- сущном во время жатвы сравнивается с человеком, который на земле должен заботиться о хлебе духовном, чтобы обрести на небе «покарм вечный небесный – видение лица Бога» (Блажен, кто съест хлеб в царствии небесном (Лк. 14 : 15)): Мровка зна— читъ людей тыхъ, которые працуютъ на свэ-тэ служачи Богу, же бы могли мэти въ пришлый часъ покармъ вэчный небесный... видение лица Бж\ого.
Хирогрил (греч.) – ‘кролик’ [Дьяченко,
1993. С. 786]; ‘тушканчик’ [Библейская эн- циклопедия, 1991. С. 710], ‘животное нечистое’ (Лев. 11 : 5; Втор. 14 : 7); ‘горная мышь, которая строит свой дом на камне’ (Притч. 30 : 26). Образ хирогрила в проповеди объясняется по притчам и сравнивается с обра- зом человека, возводящего свой дом на кам- не веры, краеугольном камне (Мф. 21 : 42;
12 : 10): Хірогрылъ значитъ людей вэрныхъ, которыи вэруютъ в Ха\ ...
Саранча – традиционный многозначный образ. В Священном Писании имеет следующие значения: ‘животное чистое’ (Лев. 11 : 22); ‘орудие гнева Господня и наказания’ (Втор. 28 : 38–42; 3 Цар. 8 : 37; Исх. 10 : 4–15; Откр. 9 : 3–5); ‘восьмая казнь египетская’ (Исх. 10; 4; 15), ‘образ множества’ (Наум. 3 : 15–17). Таким образом, преобладает негативное восприятие этого образа.
Неожиданно проповедник актуализирует периферийное значение ‘люди, которые живут по заповедям Божьим, согласно’ (Притч.
30 : 26): Саранча значитъ тыхъ же хр\тіанъ вэрныхъ, которыи немаючи при собэ видоме Ха\ Цр\z славы, живутъ порzдне и заховуютъ приказанz Хв\ы .
Слово паук (Ис. 59, 5; Иов. 8 : 14) имеет негативную семантику. Но автор, опираясь на Книгу притчей Соломоновых (Притч. 30 : 28), сближает людей богомысленных с этими насекомыми: Паукъ значитъ людей богомысленыхъ, которыи мыслzтъ w речахъ нб\ных.
Названные образы не получили никакого дальнейшего метафорического развития в проповеди и важны были только для воплощения авторского замысла: в необычной форме передать одну из основных идей христианства - спасение души. Желая поваби-ти (позабавить) слушателя, Галятовский
«переворачивает» традиционную христианскую символику.
В основной части, раскрывая смысл первой строки Исчисли мне, что еще не пришло (3 Езд. 15 : 41), Галятовский обращается к Книге пророка Амоса, в которой говорится о гневе Господнем на народ израильский и о его грядущем наказании (Ам. 14 : 18). Проповедник произвольно включает в Библейский текст о видении пророка Амоса образ гака на яблоне (гак, укр. - ‘крюк’). Такого образа не существует, он создан автором контаминацией (наложением) нескольких образов по ассоциации. Образ корзины с плодами произвольно заменен автором образом плодового дерева.
Ам. 8 : 1: Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. Ср. у Галятовского: Господи вижу гакъ на яблока...
Ам. 8 : 2: Господь сказал мне: приспел конец народу моему, Израилю: не буду больше прощать ему .
Ам. 4 : 2: ...придут на вас дни, когда по влекут вас крюками и остальных ваших удами.
Образы крюка ( гака ) и корзины с плодами ( яблоками ) ассоциативно объединены здесь общей темой – наказание и смерть. Гак символизирует угрозу: человек, как яблоко, может быть «вырван из жизни»: Гаком называетсz смерть, бw wна людей на свэтэ якъ яблока порываетъ и до гробу провадитъ .
Образ корзины с плодами угадывается в контексте в значениях ‘гроб’, ‘плен’, ‘неволя’.
Тему Страшного Суда продолжает в этой же проповеди апокалиптический образ ангела с серпом на облаце (Откр. 14 : 18). Автор пересказывает этот фрагмент (Откр. 14 : 15– 20) и дает подробное толкование по Андрею Кесарийскому: серп и точило означает ‘суд Божий’, трава - ‘люди верные’, виноград в точиле – ‘грешники в аду’ (Откр. 14 : 19). Это традиционные символы, в толковании которых автор следует канону.
Образами грешников в проповедях Галя-товского являются аспид глухой , гипокентавры , дуб , ежи , кедр , кипарис , козлища , кони , лавр , лев , плевелы , сирены , смоква неплодная , тернии , тополь , уж . Образами святых, кроме рассмотренных выше, становятся ветви маслины , виноград , кедр , кипарис , кони , лев , маслина , овцы , олень , финик .
Контекстное окружение конкретизирует значения символов кони, лев .
Так, рыканию льва уподобляется Слово Божье (Иов 4 : 10–11). Рыкающему льву, ищущему поглотить человека, уподобляется дьявол (I Петр. 5 : 8). Сила, красота, нрав этих животных лежат в основе многих метафорических сравнений. Лев – символ евангелиста Марка: Бо wнъ писалъ w въскрнію Хв\ом (второе Слово на Вознесение). В первом Слове на Вознесение, описывая в заключении трон царя Соломона (3 Цар. 10:20), двенадцатью золотыми львами у подножия трона Галятовский на- зывает двенадцать апостолов, так как, яко лвы рыком своим людей Устрашаютъ, такъ Аптолове словомъ БжУмъ людей грЭшныхъ устрашали. Образ льва получил у Галятов-ского новое значение: символ воскресения Христова. Оно уже актуализируется во втором Слове на Вознесение (см. выше). Возможность сравнения Христа со львом автор объясняет мифическими свойствами животного. Как лев три дня и три ночи спит, а по- том просыпается и выходит из пещеры, такъ Хс три днЭ и три ночи был мртвый въ гро-бЭ, потым всталъ з мртвых и вышол з гробу (второе Слово на Воскресение). В «Физиологе» такими качествами обладает не лев, а панфир (пантера) [Белова, 2001. С. 201]. У льва среди одиннадцати (!) выделенных символических значений нет значения ‘вос- кресение’. Но проповедник сознательно подменяет образы. Во-первых, в Новом Завете сказано: Победил лев от колена Иудова (Откр. 5 : 5), а Иисус Христос восходит к колену Иудову. Во-вторых, в Ветхом Завете в пророчестве Иакова своим сыновьям Иуда назван молодым львом (Быт. 49 : 8–12). И, в-третьих, образ Иисуса Христа – Царя больше ассоциируется со львом, чем с пантерой.
Один из прообразов воскресения Христова в Священном Писании – Даниил во рву со львами (Дан. 14). Символическое значение слова лев – ‘дьявол’ (в обобщенном смысле), ‘пособники дьявола’, ‘грешники’ (в более конкретном смысле): фаркеи, саддУкеи и иншии жиды, котрые мУчили Хта .
Таким образом, в границах одной проповеди автор показывает многообразие симво- ла лев и, следуя традиции, создает свое символическое значение – ‘воскресение’.
В библейских текстах часто встречается образ коня, воспевается его красота, неутомимость, сила и т. д. (Песн. 1 : 8; 4 Цар. 15 : 15; Экл. 10 : 7; Иов 39 : 19–25 и пр.). Конями И. Галятовский называет апостолов: бш шни Ха въ сердцУ и въ цстах своих носили, про— повЭдУючи егш по свЭтУ (второе Слово на Вознесение). Конями названы и люди грешные: фаркеи, саддУкеи и иншии жиды (перечисление грешников занимает целый лист), на которых фараон (‘дьявол’) ездит (второе Слово на Богоявление).
Интересную трактовку проповедник дает образам деревьев. В первом Слове на сошествие Св. Духа он в свободном порядке перечисляет деревья, которые объединены по признаку ‘высокие’. Это тополе... лавры квЭтнУчш... ципрУсы пахнУчы (кипарисы)... ДУбы васанскы, кедры ливанскш .
В Священном Писании Лексема тополь не имеет символического значения, используется только в номинативной функции (Быт. 30 : 37; Ос. 4 : 13, в последней Книге восхваляется тень от дуба и тополя). Слова лавр нет в Священном Писании. Библейская энциклопедия отмечает, что в славянской Библии ему соответствуют кедры ливанские, а в русском переводе – укоренившееся многоветвистое дерево (Пс. 36–35) [Библейская энциклопедия, 1991. С. 420]. Символи- ческое значение ‘возвеличившийся, гордый человек’, вероятно, связано с распространенной в Греции и Риме традицией награждать победителей лавровым венком. Скорее всего, именно этим и объясняется выбор автора. Кедр, дуб и кипарис – это традиционные многозначные символы. Образы этих деревьев очень часто встречаются в Священном Писании. Автор называет всего пять деревьев, но здесь могло быть любое количество, наделенных общим признаком ‘высокие’. Тополь и лавр – произвольный выбор проповедника, символическое значение в тексте – ‘люди гордые, возвеличенные, высокие’. Как ветер в бурю выворачи- вает с корнем высокие деревья, так Дх Стый выворочаетъ и выкореняетъ з свЭта людей пышныхъ надУтыхъ и высокомыслен- ныХъ которые ся деревами высокими назы— вают. Высоким деревом называл пророк Даниил вавилонского царя Навуходоносора (Дан. 4 : 19); Галятовский цитирует: Се дУбъ среди земли. В книге пророка Даниила вообще нет образа дуба, но есть высокое дерево как символ возвеличивания. Слово дуб в таком символическом значении (а также кипарис и кедр) встречается в книге пророка Захарии (Зах. 11 : 1–2).
В первом Слове на Благовещение кедр, кипарис и финик – символы возвеличивания Богородицы (Сир. 24 : 14–15). В этой главе поэтически прославляется премудрость Божия (Сир. 24). Но Галятовский берет только первых три образа, а об остальных (розовые кусты, маслины, платан, виноградная лоза и т. д.) он умалчивает. Образы кедра, кипариса и финика не получили никакого поэти- ческого развития в проповеди, они дважды упоминаются: в эпиграфе и во вступлении. Это тоже авторская позиция – удивить слушателей, вместо ожидаемой пышной биб- лейской поэзии им представлена сухая схо- ластика, которая из возвышенного кедра ливанского делает доску кедрову для двери (дверь означает Богородицу, символическое значение ‘связь земли и неба’: Бо презъ неи Хс\, якъ презъ двери пришолъ з Нба\ на землю).
В первом Слове на Рождество Богородицы кедр – символ девственности, потому что он вечнозеленый: кедр завше лэтэ и зимэ квэтнуетъ, такъ девицство прчCтой Двы... квэтнуло и... квэтнетъ (цветет).
Кипарис – символ славы Пресвятой Девы, так как кипарис хорошо пахнет и его запах далеко разносится, такъ и славу прчCтой Двы... в далекихъ сторонахъ чуютъ . Обоснование переносного значения реальными свойствами объекта (‘вечнозеленый, пахучий’) позволяет определить эти образы как метафорические.
Таким образом, свободное обращение со словом, внимание уже не столько к символическому, сколько к прямому значению, стремление объяснить выбор слова-символа не через Библию, а через естественные связи предметов и явлений – все это приводит к разрушению символического единства слова.
Но если такие новые образы или новые значения достаточно органично вплетались в канву проповеди, то образы, пришедшие из мифологии, астрологии совершенно чуждые и неуместные, буквально врывались в проповедь, разрушая сакральность текста.
Так, из мифологии пришли курьезные образы Геркулеса и разбойника Какуса. Коза Амалфея, вскормившая Зевса, сравнивается с Девой Марией, а Персей, спасший от смерти Андромеду, – с Иисусом Христом, который «вызволил от смерти Богородицу». Пришедший из астрологии образ созвездия Змееносца автор сравнивает с Богородицей. Это, конечно, единичные, чуждые вкрапле- ния, но они свидетельствуют о секуляриза- ции сознания проповедника: для него важен не столько духовный смысл, сколько художественная ценность образа. Поэтому и сам автор выступает как создатель, творец текста, в котором он дает свою интерпретацию Священного Писания.
Составление проповеди похоже на плетение причудливого узора: сочетаются чуждые по своей природе и сфере употребления слова, представления и художественные образы. Священное Писание и астрология, история и мифология, теология и народные поверья – все это выстраивается в какой-то иерархической последовательности, образуя целое гармоничное «казане», в котором «интерес содержания сменяется интересом формы» [Виноградов, 1982. С. 25]. Это была новая проповедь, которую не знали в Московской Руси. И она на долгое время определила развитие церковного красноречия в России.