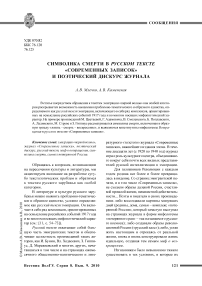Символика смерти в русском тексте «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Бесплатный доступ
В статье посредством обращения к текстам эмиграции «первой волны» как особой катего- рии раскрывается возможность выявления проблемно-тематического и образного единства, оп- ределяемого как русский текст эмиграции, включающего в себя ряд комплексов, ориентирован- ных на осмысление российских событий 1917 года и во многом носящих мифопоэтический ха- рактер. На примере произведений М. Цветаевой, Г. Адамовича, В. Смоленского, Б. Поплавского, А. Ладинского, М. Струве и З. Гиппиус рассматривается символика смерти, включенная в образ- ную триаду «жизнь - смерть - воскресение», и выявляются конституэнты мифологемы Возвра- щения в русском тексте «Современных записок».
Эмиграция "первой волны", журнал "современные записки", поэтический дискурс, русский текст, миф о возвращении, сим- волика смерти, символ потерянной России
Короткий адрес: https://sciup.org/14975193
IDR: 14975193 | УДК: 070:82
Текст научной статьи Символика смерти в русском тексте «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Обращаясь к вопросам, возникающим на пересечении культуры и литературы, мы акцентируем внимание на разработке сугубо текстологических проблем и обратимся к текстам русского зарубежья как особой категории.
В литературе и культуре русского зарубежья можно выявить проблемно-тематическое и образное единство, условно определяемое как русский текст эмиграции. Он включает в себя ряд комплексов, ориентированных на осмысление российских событий 1917 года и во многом носящих мифопоэтический характер (см.: [11, с. 54–73]).
Русский текст охватывает собой большую часть эмигрантских текстов и обеспечивает целостность произведений таких авторов, как И. Бунин, Вл. Ходасевич, З. Гиппиус, Д. Мережковский и многих других, печатавшихся в том числе и на страницах ежемесячного общественно-политического и лите- ратурного «толстого» журнала «Современные записки», важнейшего издания эпохи. В течение двадцати лет (с 1920 по 1940 год) журнал играл роль культурного центра, объединявшего вокруг себя почти всех видных представителей русской интеллигенции в эмиграции.
Для заложников Революции с каждым годом родина все более и более превращалась в видение. Со страниц эмигрантской печати, и в том числе «Современных записок», не сходили образы далекой России, счастливой прошлой жизни, ненавистной действительности... Поэты и писатели в своих произведениях либо воссоздавали картины минувших дней (родины, дома, семьи – комплекс «потерянной России», который зачастую выступал на страницах журнала в форме мифологемы «потерянного рая» – так называемого русского космоса); либо создавали образы революционной России («русский хаос»); либо, устав жить настоящим и отрекаясь от реальной жизни, вновь и вновь конструировали жизнь идеальную, создавая тем самым миф о возвращении .
Изгнанникам было невыносимо тяжело существовать в тех условиях, в которые их поставила Революция. «То, что в нашу эпоху случилось с людьми, – писал современник тех лет, знаменитый критик русского зарубежья Г. Адамович, – случается раз в тысячелетие, если не реже. За всю историю России не было примера, чтобы человек остался без всякой опоры, без какой-либо поддержки где бы то ни было, откуда бы то ни было» [4, с. 38].
А фраза, произнесенная однажды эмигрантом Дон Аминадо, стала в кругах русских изгнанников афоризмом: «Лицо эмигранта есть посмертная маска, снятая еще при жизни» [7, с. 252]. В этих словах – безнадежность, тяжкий упадок духа, глубокое чувство депрессии, переживаемое эмигрантами в 20-е – 30-е годы прошлого столетия. О «перевернутости» мира говорил и Д. Мережковский: в эмиграции, по мысли современника тех лет, возникло «ощущение перекошенности окружающего: как бы то – и совсем не то» [10, с. 229].
Как верно отмечал Адамович, «эмиграция связана с убылью деятельности, с убылью сознания и чувства, будто в мире каждому человеку есть дело и есть место, несомненно, что эмиграция, так сказать, “ущербна” по самой природе своей и, значит, может художника, особенно чуткого, выбить не то что из колеи, а как бы из самой жизни. Выбить куда? …в “никуда”» [1, с. 211].
Об этом же писала, к примеру, и З. Гиппиус в своих дневниках: «Смерть вообще сама окруженная оградой вещь. Когда говорят Смерть – подразумевают ограду, а еще чаще – ничего» [6, с. 499]. И еще: «А именно теперь хочется покоя. Иногда почти галлюцинация: точно уже оттуда смотрю, оттуда говорю. Все чужие грехи делаются легки-лег-ки, и странно выясняются, тяжелеют свои» [там же, с. 501].
Сложное отношение к веку демонстрирует и М. Цветаева. На первый взгляд, кажется, будто она вся в прошлом («...Мне в современности и в будущем – места нет» [18, с. 385]). Но если Цветаева лично, то есть как человек, «против своего века», это, конечно, неверно по отношению к ее творчеству. В этом она сама отдает себе отчет, когда пишет Ивас-ку: «Может быть, мой голос соответствует эпохе, я – нет» [там же, с. 385].
Так, например, в «Современных записках» появляется стихотворение Цветаевой
«Тебе – через сто лет», посвященное человеку, который будет жить только спустя век после ее смерти. В черновой тетради к стихотворению – надпись: «Вчера целый день думала о том – через сто лет – и писала ему стихи. Стихи написаны – он будет» [14, с. 613]. В этом стихотворении Цветаева, используя образы античности, утверждает, что будущее возможно для нее лишь при том условии, что она будет в «небытии», вернее, как мы выясним ниже, в «инобытии»: «К тебе, имеющему быть рожденным // Столетие спустя как от-дышу – // Из самых недр – как на смерть осужденный – // Своей рукой пишу: // Друг! Не ищи меня! Другая мода! // Меня забыли даже старики! // – Ртом не достать! – Через Летейски воды // Протягиваю две руки» [19, с. 95]. Цветаева уверена, что в могилу с собой она возьмет лишь стихи («Со мной в руке – (почти что горстка пыли – // Мои стихи!)...» [там же]) и сознание того, что не смогла дождаться его: «– О сто моих колец! – Мне тянет жилы, – // Раскаиваюсь в первый раз! – // Что столько я их вкривь и вкось дарила, – // Тебя не дождалась!» [там же, с. 96]. Но грусть Цветаевой убавляется от уверенности в том, что «небытие – условность» [там же].
Такие категории, как жизнь и смерть, входят в круг бинарных оппозиций древних мифологем. Представление древнего мифо-мышления о мире как о рождении из «хаоса» и возвращении к нему (закон вечного Бытия) породило обилие архаических мифов, связанных с календарными циклами обновления и умирания природы, об умирающем и воскресающем божестве.
По мысли Н.О. Осиповой, в поэтическом представлении Цветаевой «жизнь и смерть как бы меняются местами: жизнь – это и есть смерть; жизнь, представленная как быт, дом, становится синонимом смерти духовной. И наоборот, смерть тела обозначает освобождение, воскресение души» [12, с. 56]. «Я в той достоверной посудной и мыльной луже, которая есть моя жизнь с 1917 г.» [17, с. 387], – писала Цветаева в 1934 году. Или: «Я... так загнана жизнью, что ничего не чувствую. У меня... отупел не ум, а душа» [18, с. 362]. Смерть для поэта является выходом. Но она для Цветаевой – не «исчезновение», не гибель плоти, а в первую очередь, инобытие.
«Смерть как переход в иной мир – самое древнее о ней представление. Растворение человека в перерождающей стихии, посещение... преисподней – часто повторяющийся сюжет архаического мифа» [12, с. 57].
«Будучи связанным с мифопоэтикой отражения, зеркальности, оппозицией правого и левого, архетип смерти как перехода в иной мир служит... способом осмысления явлений человеческой психики и сознания» [там же, с. 62]. Миф о поэте, опаленном огнем иного мира, – это путь воскресения через самопожертвование – к рождению духа. Смерть у Цветаевой, по мысли современного исследователя, соотносится с символикой «природного космоса», «экзистенциальное осмысление категории небытия проникает в трактовку общекультурных категорий: бытием становится небытие» [там же, с. 63].
Особое место в системе мифопоэтических символов, связанных с «природным космосом», принадлежит образу сада, который в мифопоэтике традиционно ассоциируется с мифологемой Рая (то есть сада небесного), а по структуре соотносится с мировым древом – той моделью Вселенной, о которой мы уже говорили в нашей работе. В русском тексте «Современных записок» образ сада традиционно выступает конституэнтом мифологемы «потерянного рая» – ушедшей России. Таким образом, в рамках «эмигрантского мифа» процесс означивания может быть представлен в следующем виде: смерть – инобытие – природный космос – сад – райский сад – рай – потерянный рай – утерянная Россия.
Обозначенный нами образ человека, рожденного спустя столетие после ее смерти, сквозь призму которого «просматривается» цветаевское «инобытие», приобретающее в рамках русского текста дополнительный денотат – утерянную Россию, является на данном текстуальном пространстве конституэнтом мифологемы Возвращения в русском тексте «Современных записок».
Мотив смерти как выхода из этого мира и прикосновения к другому находим и у Г. Адамовича в стихотворении «Голос»: «Тихим, темным, бесконечно-звездным, // Нет ему ни имени, ни слов, // Голосом небесным и морозным, // Из-за бесконечных облаков, // Из-за бесконечного эфира, // Из- за всех созвездий и орбит, // Легким голосом иного мира // Смерть со мной все время говорит» [2, с. 238]. По мысли автора стихотворения, знаменитого критика русского зарубежья, эмигранты – это «люди, которым душно, тягостно и тесно в мире с при-хлопнувшейся над ними крышкой. Люди, которые задыхаются в таком мире...» [3, с. 170]. Поэтому голос этот – «любимый», и в ответ ему автор «потихоньку умирает» [2, с. 238], становясь неким посредником между двумя мирами – тем, из которого с радостью уходит, и тем, к которому вскоре прикоснется.
Ожидает смерти и герой В. Смоленского в стихотворении «Наедине с самим собой»: «...жду, когда придет рассвет, // Который больше не разбудит» [15, с. 214], – говорит автор. В этом мире судьба для него – «бессмыслица», а стихи – лишь «жалоба и боль» [там же]. Томясь бессонницей и снами, он знает, «что спасенья нет» в этом мире, но верит, «что спасенье будет» [там же] – в обретении духом подлинного бытия.
Этот же мотив находим и у Б. Поплавского в наполненном атрибутикой смерти стихотворении «Флаги». Так, во второй строфе наличествует отсылка к реке забвения в царстве мертвых, испив воду которой души забывают свою былую земную жизнь: «Воздух спал, не видя снов, как Лета» [13, с. 185], – говорит автор. Здесь же находим образ кораблей: «Им являлся остов корабельный, // Черный дым, что отлетает нежно, // И молитва над волной безбрежной // Корабельной музыки в сочельник» [там же].
Заметим, что образ корабля символизирует собой пространство перехода: он не принадлежит ни земной, ни водной стихии, само пребывание на корабле может рассматриваться как положение между жизнью и смертью. Самый известный мореплаватель западной традиции – это Одиссей. Он олицетворяет путь к истокам, и в этом контексте наделяется негативным значением (возвращение домой – это возврат к отправной точке, то есть к материнскому лону, это отсутствие эволюции и смерть).
Наконец, здесь же находим образ флагов – наиважнейших отличительных символов корабля: «Первым блещет флаг над горизон- том. // И под вспышки пушек бодро вьется. // И последним тонет средь обломков. // И еще крылом о воду бьется» [13, с. 185]. В этой же строфе наличествуют еще два символа, отсылающих нас к мифологеме Возвращения в русском тексте «Современных записок»: это горизонт – как переход из одного пространства в другое (из жизни земной в жизнь небесную) – и крыло, которое является неким медиумом между небом и землей, то есть вариантом Мирового древа, модели Вселенной, олицетворяющим непрерывное движение от «хаоса» к «космосу», от жизни к смерти, от вечного ухода к вечному возвращению, и выступает, таким образом, символической инкрустацией мифа о возвращении в русском тексте «Современных записок».
И, наконец, о смерти говорит автор в заключительной строфе стихотворения, усиливая данный мотив использованием образа флага: «Сколько раз Ты в летний день хотела // Завернуться в флаг и умереть» [там же]. Таким образом, в рамках русского текста процесс означивания может быть представлен в следующем виде: флаг – корабль – смерть – инобытие – природный космос – сад – райский сад – рай – потерянный рай – утерянная Россия.
Символику смерти и образ корабля (как пространство перехода из одного мира в другой) находим и у А. Ладинского в стихотворениях «Отплытие» и «Дымом соленой пыли...». «Мы собираемся в дорогу, // С приготовленьями спеша, // Смотрите – отлетает к Богу // Нетерпеливая душа» [9, с. 254], – говорится в первой строфе «Отплытия». Далее автор отождествляет уход из жизни «отплытию» «задымившего корабля»: «Увы, последние лобзанья // На задымившем корабле, // Надгробные воспоминанья // О бренной голубой земле, // И мы, качнувшись утлым краем, // Как на руках несомый гроб – // Отчаливаем, отплываем, // И влажно холодеет лоб» [там же].
Знаковым моментом является то, что уходящих в инобытие путников сопровождает чайка («А чайка долго за кормою // Летит, сопровождает нас» [там же]). Следует сказать, что птицы традиционно считаются проводниками душ в мир иной и символизируют вечное движение от «хаоса» к «космосу».
Таким образом, символика смерти, актуализированная на данном текстуальном пространстве в том числе использованием образа корабля и символики птиц, дает нам право говорить об эксплицированной инкрустации мифа о возвращении в русском тексте «Современных записок».
Корреляцию мотива смерти и образа корабля находим и во втором стихотворении Ладинского («Дымом соленой пыли...»). Об отплытии в иной мир автор говорит следующим образом: «Дымом соленой пыли // Дыша пред зарей впотьмах, // В буре морской мы плыли // На вздыбленных кораблях. // И воспаленными глазами // Глядели из-под ладони вдаль – // Там, за кромешными морями // Грааль! Грааль!» [8, с. 190].
В самом общем своем значении Грааль символизирует мистический центр, божественный первопринцип, в более узком – единение с Богом и связывается с христианским мотивом манны небесной и таинством причащения. Подтверждение данному толкованию находим в строках: «Так от бедной земли за туманом // Скрипучий мачтовый лес // Летел, летел по океанам // На голубые холмы небес» [там же]. И далее: «И вот в эфире вселенной, // Клубящейся, как дым, // Встает розовостенный // Небесный Иерусалим» [там же].
Иерусалим – основание, жилище мира. На средневековых картах его помещали в центр и считали «пупом земли» – одним из символов центра, связываемых с мировой осью (в качестве ее опоры). Небесный Иерусалим предстает как образ рая, царства святых на небе либо олицетворение церкви Христовой. Град этот весь сделан из «светоносных» материалов – золота, стекла, самоцветов, которые символизируют высшие ценности и являются средоточием сакральной энергии, а также выступают атрибутом статичного, неизменного совершенства, в отличие от динамичных форм растительного мира, мира вечного становления. Хотя в этом контексте описание рая как небесного города в определенном аспекте и антитетично образу рая как сада, но Иерусалиму также принадлежит особое место в системе мифопоэтических символов, связанных с «природным космосом». В мифопоэтике он традиционно ассоциируется с мифологемой Рая и приобретает в рам- ках «эмигрантского мифа» дополнительный денотат – утерянную Россию.
Переосмысление жизни и смерти видим и у М. Струве в стихотворении «Сестре». Автор обращается к умершей: «Ты спишь на кладбище далеком // Под лепет листьев и венков. // Не увидать угасшим оком // Тебе просторов...» [16, с. 186]. Но он «завидует» судьбе сестры, так как для него земная жизнь – это духовная смерть, а смерть тела поможет воскресению души: «А я и в мире, как в могиле, // Твоей завидую судьбе. // Меня живым души лишили. // О, если б рассказать тебе // О том, как всякое дыханье // И каждый плеск людской волны // Я променял бы на молчанье // твоей последней тишины» [там же]. Он надеется на освобождение души, ее воскресение после смерти тела: «...когда коснутся // Забвенья руки мертвых век, // В остывшем сердце встрепенутся // Большие крылья, и навек // Душа моя, душа, как птица, // Забыв земной тяжелый стыд, // С твоей душой соединится // И, замирая, полетит» [там же, с. 187]. Символика смерти здесь, как и в «Отплытии» Ладинского, усиливается использованием символики птиц – обитателей верхнего уровня Мирового древа, традиционно соотносимых с ангелами и божественными существами, выступающих проводниками надежды. Данная корреляция позволяет говорить о символической инкрустации мифа о возвращении в русском тексте «Современных записок» на данном текстуальном пространстве журнала.
О «пламенном желании смерти» [5, с. 221] говорит З. Гиппиус в стихотворении «Étoile». Автор признается, что это желание «Такое пристальное, такое сильное, // Как будто сердце – готово» [там же]. «Готово» сердце к смерти физической, потому что «сквозь пенье автомобильное» [там же] слышит некий зов. И вновь перед нами – образная триада «жизнь – смерть – воскресение» и надежда автора на обретение подлинного бытия в небесной жизни: «Господи! Я пойду в неизвестное, // только пусть оно будет родное; // пусть мне будет небесное – // такое же, как земное...» [там же].
Итак, рассмотрев символику смерти, включенную в образную триаду «жизнь – смерть – воскресение» и эксплицированную на конкретном текстуальном пространстве образами корабля, флага, крыла, птицы, порога, Грааля, Иерусалима, выявляющимися в поэзии авторов издания, в частности – в стихотворениях М. Цветаевой, Г. Адамовича, В. Смоленского, Б. Поплавского, А. Ладинс-кого, М. Струве и З. Гиппиус, можно заключить, что, обратившись к понятию текста как особой категории, мы имеем право говорить о наличии мифологемы Возвращения в поэзии авторов журнала в русском тексте «Современных записок».