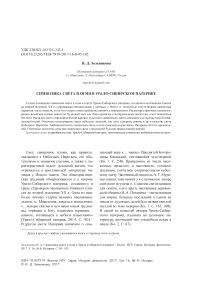Символика света и огня в урало-сибирском патерике
Автор: Зольникова Наталья Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена символике света и огня в тексте Урало-Сибирского патерика, созданного на Нижнем Енисее во второй половине ХХ в. староверами-часовенными, у которых с 1840-х гг. полностью отсутствовала священная иерархия, часть таинств, из-за чего остро стояли проблемы святого и освященного. Рассмотрен феномен самовозгорания свечей как символ святости. Чудесный свет мог быть привязан к материальному носителю, а мог появляться без него. Выявлен чисто старообрядческий вариант чудесного священного света, связанного со причастием богоявленской водой. Отмечено истолкование таких небесных явлений, как гало, северное сияние и др. в качестве света Небесного Царствия. Амбивалентность символики света и огня показана на рассказах Патерика об огне преисподней. Отмечены элементы сходства символики света с традицией Русской православной церкви.
Старообрядчество, урало-сибирский патерик, христианская символика, амбивалентность света
Короткий адрес: https://sciup.org/147219839
IDR: 147219839 | УДК: 238:821.161’01-343.5 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-95-103
Текст научной статьи Символика света и огня в урало-сибирском патерике
Свет, священное пламя, как правило, связывают с Небесным Царством, его обитателями и земными слугами, а также с характеристикой высот духовной жизни, что отражалось в христианской литературе, начиная с Нового завета. Эта общехристианская традиция обнаруживается и в лексике Урало-Сибирского патерика, созданного в среде староверов-часовенных Нижнего Енисея во второй половине ХХ в. Одна из наиболее чтимых стариц женских часовенных скитов, м. Македония, писала к монахиням: «…матери святии и вси ваши юныя трудни-цы, горящии к Богу пламенем терпения… живите, готовящеся к небеси изшествию» [Урало-Сибирский патерик, 2014. С. 183] 1. В другом месте Патерика написано о «пы- лающей вере к… иконе» Пресвятой Богородицы Казанской, считавшейся чудотворной (Кн. 1. С. 258). Праведники из числа часовенных прошлого и настоящего, согласно традиции, считались сопричастными небесному свету. Часовенный писатель А. Г. Мура-чев назвал замученного в сталинском лагере скитского игумена о. Симеона светильником для скитов, а его друга, наставника деревенской общины И. А. Потанина – светильником для мирян, бельцов; последний в одном из писем от духовных детей был назван светлой звездой во тьме неверия (Кн. 1. С. 165, 168). В одной из повестей авторы Урало-Сибирского патерика, ссылаясь на духовную литературу, иноческий чин уподобили искре в пепле (Кн. 2. С. 67).
Символика священного, в первую очередь священного света, для часовенного согласия, перешедшего еще в первой половине XIX в. к беспоповской практике, была особенно актуальна. В согласии отсутствовала священная иерархия, часть таинств, поэтому очень остро во многих случаях стояли проблемы святого и освященного. Староверы-часовен-ные осознавали, в частности, что их праведники, которые почитались как святые, не могли быть канонизированы. Именно поэтому часовенные не только молились им о за-тупничестве и помощи, будучи уверены в их святости, но молились и Богу за них. Первая фиксация «обоюдности молитвы» отмечена еще в очерках В. Санина о поклонении староверов священным могилам на уральских Веселых горах. В повестях Урало-Сибирского патерика не раз рассказывалось о молитве за усопших праведников часовенного согласия (Кн. 1. С. 46, 47 и др.). Поэтому любое знамение (в традиционной религии обитатели потустороннего мира, как правило, общаются с людьми на языке знаков и знамений), чудесное событие могло подтвердить или опровергнуть святость или же принадлежность к миру преисподней какого-то явления или человека.
К таким чудесам относится самопроизвольное возгорание свечей на могилах почитаемых усопших или же перед иконами во время моления. Это одно из самых распространенных чудес, о которых рассказывается в Урало-Сибирском патерике, надежно свидетельствующих о проявлении святости. Как известно, свеча в церковной практике – символ священного небесного огня (а также символ жертвы Богу). В Нижегородской губернии «вернии» видели свет свечей на могилах «отцов» часовенного согласия, керженских иноков (в частности, инока схимника Иакова). На могиле особо чтимых игумений Феклы и Мелетины наблюдали свет свечи, исчезавший при приближении. «До сорочин… теплилась свеча» на могиле уральского черноризца о. Иосифа, когда-то бывшего, подобно Савлу (как подчеркивается в пате-риковой повести), гонителем «верных», но обратившегося в староверие под впечатлением видения св. Николая, обличавшего его за преследования староверов. Во время преследования старообрядцев в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Приморье один из них ушел в таежную келью, семья же осталась на старом месте. Вскоре он умер и был похоронен рядом с кельей навещавшим его сыном; позже на могиле выросли прекрасные цветы и стал наблюдаться «огонь, как от свечи», исчезавший, когда подходили люди (Кн. 1. С. 18, 154–155, 158–159, 198). В одной из патериковых повестей рассказывается, что на месте уничтоженного жилья «християн», сожженного властями с часовней, людьми и скотом, стали слышаться церковный звон, пение, появлялись горящие свечи (Кн. 2. С. 70). Из другого рассказа узнаем, что в некоей часовенной моленной перед церковной службой сами собой возгорались свечи (Кн. 1. С. 176]. В известном уральском женском скиту, в обители м. Хионии, ко времени молитвы сами собой загорались лампады. В другом скиту перед иконой св. Николая сама собой возгорелась лампада, погасшая, когда к ней прикоснулись (Кн. 1. С. 243, 261). В одной из тюменских часовен старообрядцев наблюдали свет лампады в то время, когда в ней никого не было; при приближении свет исчезал (Кн. 2. С. 142). В другой повести над домом супружеской пары староверов соседка-«ни-конианка» видела две горящие свечи; она обратилась к мужу с просьбой перейти в веру часовенных, тот отказался и умер позорной смертью (Кн. 1. С. 244).
Иногда свеча становилась доказательством святости «от противного». Так, в моленной одной из общин Тувы рядом с иконами стояло старое распятие, настолько стертое, что, видимо, вызывало сомнение; поэтому перед ним никогда не ставили свечу. И вот однажды кто-то из молящихся увидел, что от распятия идут светлые лучи; это, очевидно, должно было сомнения рассеять (Кн. 1. С. 262).
Священный огонь в патериковых повестях не обязательно был привязан к видимому материальному носителю. Так, в одной из них рассказывается о скрытом чудесным образом от людей уральском ските, в котором перед иконами вместо свечей горел свет, «аки клуб огненный»; он постепенно угас после смерти скитских старцев. Показательно, однако, что и в этом случае автор патерикового рассказа именовал огненный клуб светильником. Одна из старейших часовенных черноризиц, м. Македония, переписавшая множество цветников и других душеполезных книг, обходилась до своей смерти без очков. Она рассказала одной из скитниц, что во время работы бумагу ей освещал чудесный клубочек света, о чем она запретила рассказывать до своей кончины, очевидно, избегая людской славы. Явление, тождественное пасхальному схождению благодатного огня в Иерусалиме, описано в одной из повестей Урало-Сибирского патерика. В алтайский женский скит м. Елизаветы были привезены мощи м. Ми-ропии, которая в «Никоново время» спасалась в скиту с такими же беглыми старицами. По местному преданию, «когда старицы жили в келии, в Христов день (на Пасху) огнь сходил к ним в келию». Рассказчица была свидетельницей появления в пустой часовне скита м. Елизаветы чудесного огня уже после окончания службы над мощами, который исчез, как только она туда вошла (Кн. 1. С. 62, 182, 248).
Священный огонь, служивший доказательством святости сакралии, появляется в рассказах о богоявленской воде, из-за которой в часовенном согласии велись долговременные споры: часть староверов не признавала (в значительной мере из-за миссионерских усилий спасовцев) каноничность ее употребления в качестве причастия. В рассказах о четырех сходных случаях (от Минусинска до Тувы) люди, не верующие в святость богоявленской воды, выливали ее в реку, где она воспламенялась. Еще одну модификацию священного света наблюдали вечером на Богоявление: при разбавлении святой воды над ней на потолке появился круг света с нависшими светлыми каплями. Однако на следующий день следов этого круга с водой на потолке не обнаружили, как и никакой протечки вообще (Кн. 2. С. 46–47).
Одно из самых зрелищных видений света в связи со старообрядческим причастием посетило одну из стариц Дубчесского скита м. Анатолии. Старица сомневалась в пользе причащения предлагаемыми ей Святыми Дарами. «И вот во время причащения Святых Таин, когда мать Анатолия стала класть в сосуд Святыя Дары для меня, грешныя, и я стояла рядом, тогда появился яко столп огневиден по обему сосуда, аки искры испущающ и якоже разноцветный бисер блистающ». Игу- мения же Анатолия растолковала видение так: «Вот ты сомневалася о великой святыне, и тебе Господь известил, чтобы к тому не имела сомнения» (Кн. 1. С. 216, 217). По-ви-димому, сопряжение богоявленской воды с огнем могло возникнуть тем легче, что всем были известны тексты молитв «Ко святому причащению», в которых причастие сравнивается с огнем (см. ниже).
Необычный свет особой интенсивности неизменно присутствовал в так называемых сонных видениях, символизируя Царство Небесное. После похорон дубчесского игумена о. Антония одна из стариц видела во сне его небесную обитель «в светлом месте, в обители сияет светло-желтый свет высоко от земли, выше облаков» (Кн. 1. С. 136). В видении Веры (нестарообрядческом, но включенном, тем не менее, в Урало-Сибирский патерик) к постели больной в сиянии сильного света подошли св. Василий Великий и Георгий Победоносец (Кн. 2. С. 121). В видении Агнии на востоке от огненной генны при взгляде вверх она увидела «небо отверсто, стоит страшный престол и великий сияет свет» (Кн. 1. С. 245–246). Примеры можно многократно умножить. Именно эта ментальная константа определила истолкование староверами таких природных явлений, как северное сияние и гало (появление рядом с солнцем крестов, ложных солнц и т. п.). Один из самых авторитетных наставников Нижнего Енисея, активный автор-составитель Урало-Сибирского патерика, И. А. Потанин, так толковал сообщения о гало в советской печати: «Ето действительное знамение Небеснаго Царя… на посрамление безбожников и на уверение християн. Кресты знаменают какой-то подвиг: страдание, гонение…» (Кн. 2. С. 108). Когда же видели северное сияние, то говорили, что «небо раскрылось». У часовенных даже сложилось поверье, что в этот момент нужно просить у Бога о самом заветном: дать или земное богатство, или спасение души. Черноризец о. Тарасий, переживший это явление еще в юности, в бытность в Пермской области, до переезда в Сибирь, считал, что Бог исполнил его желание, явно имея в виду обретение им верного пути спасения души – монашество. Отец же его, Иван Илларионович, увидев северное сияние, счел, что наступает конец света, и срочно разбу- дил домашних (дело происходило ночью), но свет тем временем угас (Кн. 1. С. 112–113). Толкование этих небесных явлений не всегда было делом безопасным. Так, в 1937 г. ста-ровер-часовенный Петр Семушин, наблюдая вместе со своими односельчанами, как «небо горело кровавыми столбами и волнами», сказал: «Как страшно небо рыдает». Для него (и его одноверцев, судя по патериковой повести) это северное сияние стало знамением, символом небесной оценки земного террора. За принародное озвучивание ее по доносу он и был расстрелян под Колпашевым. То, что позже, когда река размыла общую могилу репрессированных, тело его было найдено нетленным, стало для часовенных знаком святости Петра как мученика, пострадавшего за веру (Кн. 2. С. 55). В другом случае огонь как бы от пожара над уральской женской обителью, который видели многие окрестные жители, сбежавшиеся тушить этот несуществующий пожар, тоже сочли символом. Позже его признали вестью о будущем разорении обители (Кн. 1. С. 262). Понятно, что знамение стало ясным для староверов, только когда разорение совершилось.
Модификацией небесного света были и цветные круги или венцы, связанные как с предметами, так и с людьми, о которых неоднократно сообщалось в патериковых повестях. Так, некая старица увидела однажды «над главой могилы» всеми почитаемой дубчесской игумении м. Анатолии цветные круги – алый, зеленый и желтый, причем при описании старица уподобила их нимбам святых. Нимбы медленно плыли в направлении часовни, недалеко отстоящей от могилы, и там исчезли. Прямого истолкования этого чудесного явления в повести не предложено, сообщение заканчивается неопределенно: «И Бог весть, что ето могло знаменовать видение». Однако сюжет был дополнен письменным свидетельством игумена о. Антония о молитве больной старицы к м. Анатолии с просьбой помолиться о ее исцелении, которое и произошло в самом скором времени (Кн. 1. С. 220). В таком контексте святость м. Анатолии сомнения уже не вызывала, как и смысл знамения. Разноцветные венцы появляются в легенде о святом ключе у алтайского села Сорочий Лог на месте расстрелянных в гражданскую войну «християн». Хотя легенда не старообрядческая, авторы Патерика уверяли, что есть свидетельства о принадлежности погибших к «верным». Венцы наблюдали в воде святого ключа; внутри них помещались крохотные человечки, одетые по-крестьянски. Очевидно, видение подтверждало святость страдальцев, тем более, что они оказались в священной «компании»: в других случаях в том же ручье видели образы Богородицы с Христом, ангела-хранителя, св. Николая и св. Иоанна Богослова (Кн. 2. С. 44). Другой случай был не таким очевидным. Радужный венец (светлый с желтым и зеленым, как описывала визионерка) со звездой над ним увидела староверка-часо-венная над головой некоей старицы во время моления в одной из тувинских общин (Кн. 1. С. 262). Личность старицы в Патерике не раскрывается. Возможно, священная символика относилась к старообрядческому иночеству в целом: судя по всему, дело происходило во времена трагических событий в Туве в 1920– 1930-е гг., когда из-за преследований часовенного монашества со стороны властей по краю прокатилась волна самоуничтожений.
Немало места в Патерике посвящено жжению бесов невещественным огнем. Символика последнего хорошо известна в православии. В «Последовании ко святому причащению» читаем следующие строки: «Яко же огнь да будет ми и яко свет Тело Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя греховное вещество» [Православный молитвослов, 2009. С. 264]. С невещественным огнем связывали не только причастие, но и почитаемые сакра-лии. Во многих случаях бесноватые кричали (как считали в народе, голосом бесноватых говорил сам бес), что их жжет при приближении к иконам, к могилам или к земле с могил, почитаемых святыми подвижников, прикосновении к их одежде; нередко это сопровождалось экзорцизмом. Так, считавшуюся чудотворной рясу инока Павла Убиенного (погиб в 1830 г.) часовенная черноризица м. Флина тайно привезла с Урала на одну из томских таежных заимок. «…и на той заимке, – рассказывается в Урало-Сибирском патерике, – были беснующия… И когда изгоняли беса из некоей старицы, сего ради молились слуюбу святому Иоанну Богослову, за службой надели рясу отца Павла, а бесную держали трое: отец Тимофей, мать Флина и
Иоанн. И тогда бес закричал: “Жжет меня, жжет, вон Пашка подходит, мучит меня, мучит, опустите мне руки, и я в руки выйду”, и ладошками зашшалкал, кричит: “Раз, два, три, шесть, девять”, и вышел» (Кн. 1. С. 35). Как чудотворец мог выступить и живой человек, при этом его мантия, как предмет особого сакрального значения, также принимала священную силу. Авторы Патерика в рассказе об одном из почитаемых скитских игуменов, о. Мине, приводят красочный в своих подробностях случай изгнания им беса: «…в 7447-м г. (1939 г. – Н. З. )… отец Мина приехал на Безимянку с оставшими старицами и христолюбцами (речь идет о переезде колыванских скитов в Красноярский край в поисках спасения от преследований. – Н. З. ). И когда его привели к матери Мастрадии, одна беснующая, мать Авсияния, как встретили его, она сразу упала на пол и стала без памяти. Бес в ней закричал: “Душной стари-чошка, спалил меня”. И долго кричал: “Сгорел, спалило, спалило меня”. Отец Мина стал молиться, а бес все кричал: “Спалило меня”. Мать Мастрадия попросила отца Мину надеть на бесную его мантию, которая была на нем, а ему дали другую мантию. Он снял с себя и положил на бесную. Тогда бес сильнее закричал: “Спалило, спалило, выйду, выйду”. А отец Мина все стоял и молился. Бесная лежала среди часовни на полу, и глаза у нее были закрыты, и из роту шла какая-то слюна, как пена, а бес все кричал: “Сгорел, спалило”. Мать Мастрадия попросила отца Мину, чтоб он ему сказал, чтобы вышел бес. Отец подошел к бесной, оградил ее и сказал… Только бес еще сильнее закричал: “Спалило меня, выйду, выйду”. И сразу как из ружья выстрелил и вышел. Больная сразу глаза открыла и стала молитву творить, и ей стало легко». Обращает на себя внимание некое руководство действиями игумена во время акта экзорцизма со стороны авторитетной урало-сибирской игуменьи м. Мастрадии; фактически Патерик описывает коллективное действо (Кн. 1. С. 155–156).
В другом случае беса «жгли» с помощью целого комплекса сакралий. Одержимая Евгения Семушина пришла в гости в женский скит, и мать София решила ее негласно «полечить»: «Я встала потихоньку и… достаю святыню молча. Она соскочила на коленки, начала меня колотить руками и закричала: “Ты, старушошка, кого там достаешь? Ни надо, ни надо, зажгло меня, зажгло”. Я развязала и стала ей подносить по одному узолоч-ку все, что было, а она все кричала, что жгет, жгет… А святыня была таковая: много земли с разных могил, инока Павла от рялы часть, отца Савы от мантии часть» (Кн. 2. С. 89).
Сила невещественного противобесовского огня могла проявиться в крестном знамении, только оно должно было быть «истовым», исполненным с особым тщанием и верой. Один из авторов патерика, черноризец Дубчесских скитов о. Тимофей, описал «произшествие», которому «аз бых самовидец». В одном из старообрядческих домов было «людское собрание», которое возглавлял «представитель некто из атеистов». Сидел он «в переднем углу под святыми иконами… лицем к порогу и к публике, а над ним на полке стоял крест Христов». Входившие в дом «християне» клали, как положено, три поклона перед иконами, «но ради нечестивца не истово воображали на себе крестное знамение, потому что чрез него молились, а он смотрел на каждаго. И последи всех пришел некто старичок, никого не стесняясь и не стыдясь, положил три поклона, истово вообразил на себе крестное знамение. В то время я смотрел на того не-вернаго представителя, что его палило, аки великое пламя, крестная сила, и он не замог сидеть, покраснел и был намерен выбежать, но ради множества людей пришлось сидеть на месте. И потом с клятвою извещал, что “меня аки пламенем жгло, на многое время был во удивлении и чюдился о том, что все молились, но я ничего не очющал, а последний старик сожег меня”». В другом случае на старообрядческом богослужении некий юноша настолько истово «воображал на себе… истинное крестное знамение… что бесную-щие не могли терпеть и вышли из пределов, проклинали и сильно шумели, а впоследствии стали выбегать из собора во время поклонов, и всю службу проругали его» (Кн. 2. С. 107). На представление верующих о пожи-гающей бесов силе крестного знамения, скорее всего, повлияли священные тексты. Так, в Молитве Кресту читаем: «…яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением» [Православный молитвослов, 2009. С. 341].
Характерно, что в одном случае феномен жжения проявился при приближении бесноватой к горящей перед иконой Богородицы свече: невещественный огонь сопрягался здесь с реальным, но тоже из сферы сакрального (Кн. 1. С. 271). В Патерике рассказывается и о таком редком случае, когда невещественный огонь оставил вполне вещественные следы. Для изгнания беса одну из нижнеенисейских страдалиц накормили перед сном частицей рубашки скончавшегося в мучениях праведного юноши Феодосия. Больной стало легче, но ее собственная рубашка оказалась похожей на обожженную (Кн. 2. С. 90–91).
Священный огонь служил символом чудесной охраны от сил тьмы. Так, в 1841 г., во время очередных гонений на уральское староверие, была предпринята попытка уничтожения могилы одного из самых чтимых старцев часовенного согласия, нижнетагильского священноинока Иова, на которой совершались запрещенные властью богослужения. Во вскрытой могиле присланные властью «гробокопатели» обнаружили нетленные мощи, от которых, как им казалось, исходил яркий свет: «Им чюдилось, что пламя огня вылетает из могилы и опаляет их». Святотатцы в ужасе разбежались, и могила была оставлена, как гласит предание, в покое (Кн. 1. С. 24, 25). Во время разгрома старообрядческих поселений в Приморье был убит один из часовенных старцев. Убитый лежал на земле всю ночь, а над ним стоял огненный столп, поэтому, как повествуется в Урало-Сибирском патерике, солдаты не могли забрать его тело (Кн. 1. С. 154). В сознании верующих священный огонь мог выступать как символ божественной кары, стать средством наказания за богохульство. Об этом рассказывается в двух повестях Патерика: от молнии сгорел дом со всей скотиной крестья-нина-часовенного, который взял икону св. пророка Ильи «на игрище»; в другом случае на покосе от удара молнии погибло 12 чел., поскольку один из косцов неуважительно отозвался о том же святом (Кн. 2. С. 74, 78).
Вслед за рассказами о наказании небесным огнем за поругание св. Илии в Патерике помещены несколько рассказов о пожарах, вспыхнувших в Хабаровском крае из-за засушливого лета и осени 1975 г. Казалось бы, стихийное бедствие, которое можно разве что привычно истолковать как Божье наказание за грехи. Однако в этих пожарах авторы Патерика усмотрели одну значимую особенность: огонь не тронул те старообрядческие улицы в поселках, по которым против фронтальной линии пламени верующие ходили с иконами Богородицы Неопалимой купины, Седмицы (образ Спаса со святыми), а в домах молились «Богу, Кресту честному и Пресвятей Богородице Неопалимой купине». Даже «неверные» убедились в Божественном вмешательстве: приехавшим из Москвы и Хабаровска начальникам, как рассказывается в Патерике, очевидцы-атеисты поведали о том, как «чюдно потушен и отведен был пожар староверами, и они удивились» (Кн. 2. С. 74–76). Патериковые рассказы подчеркивают, что огненная Божественная кара постигла только «неверных», в чем и был для их авторов высший смысл произошедшего.
Невозможность обрести священный огонь, лишение его, могли символизировать потерю благодати. Так, в 1946 г. в Туве, где продолжалась коллективизация, на общее моление пришли как вступившие в колхоз, так и воздержавшиеся от этого богопротивного дела. Но перед службой, которая должна была состояться в честь праздника Богоявления, не удалось зажечь свечи, сколько бы попыток ни предпринимали. С тех самых пор в этой общине с колхозниками вместе не молились (Кн. 2. С. 106). Перед разорением властями одного из уральских скитов черноризцу Иоанну было видение: «…два огнен-ныя столпа в воздухе над нашею обителию, и сии столпы от обители вознесошася на небо»; свое видение о. Иоанн сам и растолковал: «Отошла благодать от обители нашей» (Кн. 1. С. 257–258).
Огонь, как и любая стихия в культурном пространстве, амбивалентен. В Урало-Сибирском патерике, в соответствии с православной традицией в целом, много сообщений об адском или бесовском темном огне. Прежде всего, это огненная река видений о потустороннем мире, в которой мучаются или в которую падают переходящие ее по узкому мосту грешники. Она присутствует в видении Агнии (Кн. 1. С. 245). Маркером принадлежности огня могут выступать звуки, свет и запахи: часто в рассказе об огненной реке присутствуют сведения о шуме, мрачном свете или вони, которые ее сопровождают; признаками же рая, как известно, служат ангельское пение, яркий свет и благоухание. В рассказе Агнии на реке стоял шум и от нее шла вонь. О бесовской огненной парилке в бане, которую нечестивый тракторист затопил в воскресенье с помощью расколотой на растопку иконы, повествуется в рассказе «О казни нечестивого юноши» (Кн. 2. С. 76–77). О явлении беса в виде огненного змея одной из послушниц уральской женской обители узнаем из повести «О чер-норизице Антониде» (Кн. 1. С. 221). Необычный свет, как от фонаря в руках человека, увидел ночью в своем дворе алтайский кре-стьянин-часовенный. Принадлежность огня выяснилась, как только крестьянин, произнеся Иисусову молитву, оградил его крестным знамением: «И абие исчезе свет, и слышен бысть страшный велий грохот, аки бы разсе-деся гора» (Кн. 1. С. 100). Наконец, взрывы и пожары, естественно, сопровождающиеся огнем, – непременные спутники рассказов о полтергейсте, которые стали появляться в советской периодической печати 1980-х гг.; их с удовольствием переписывали авторы Патерика, находя в этих происшествиях свидетельства действия бесов (Кн. 2. С. 144–147).
Символика огня и света в Урало-Сибирском патерике уходит корнями в христианскую, и в частности, православную традицию, в том числе византийскую и древнерусскую. Так, в русских житиях до конца XVII в. отмечены уподобление святых горящей свече, видение огня над реликвиями и мощами святых, самовозгорание свечей над их могилами и гробницами, огненный столп над местом событий, связанных с прославлением святых [Мельник, 2011]. Описанная традиция не исчезла и после церковной реформы XVII в. О тех же явлениях можно узнать и из более поздних житий святых Русской православной церкви: например, в житии прп. Серафима Саровского повествуется о cамовозгоравшейся лампаде в его келье [Преподобный Серафим Саровский, 1993. С. 80, 81]. Во всех этих случаях чудесный огонь расценивался как проявление Боже- ственной воли и благодати, служил признаком святости и прославления святых.
В Урало-Сибирском патерике чудесный свет, принадлежащий Царствию Небесному, был еще более востребован, чем в практике церкви, обладавшей трехчленной священной иерарахией. Он служил иногда единственным индикатором, который мог свидетельствовать о святости подвижника: в топике святых преподобных – в отношении черноризцев, в топике святых праведных – в отношении мирян. Подчас для усиления свидетельства чудесный свет являлся в комплексе с другими знамениями: ангельским пением, церковным звоном, благоуханием и т. п. Огонь, как небесный, так и бесовский, наряду с другими чудесными индикаторами, в сознании часовенных часто выступал как знамение, либо дающее оценку происходящим или произошедшим событиям, либо предвозвещающее их. Во всех случаях предполагалось наличие толкователя, переводчика с «потустороннего» языка на обыденный. В этом качестве мог выступить любой член часовенного согласия – от простого крестьянина или крестьянки (разделения по гендерному признаку здесь ни разу не отмечено) до чтимых скитских подвижников, за которыми утвердилась репутация ясновидящих. Те же чудесные явления света, которые по тем или иным причинам оставались в Урало-Сибирском патерике без однозначного толкования, помещались авторами в такой контекст предшествующих или последующих повестей, который окольным путем подводил читателя к нужной оценке.
В заключение еще раз подчеркнем, что явления чудесного потустороннего огня и света в Урало-Сибирском патерике вполне соотносятся с общеправославной традицией. Особенно отметим то обстоятельство, что в ней чудеса явления света часто были связаны с еще неканонизированными местночтимыми святыми, и именно в этом отношении практика староверов в значительной степени опиралась на общеправославную традицию.
Список литературы Символика света и огня в урало-сибирском патерике
- Мельник А. Г. Огонь в практиках почитаемых русских святых в XI-XVII веках // Огонь и свет в сакральном пространстве: Материалы междунар. симпозиума. М., 2011. С. 140-142