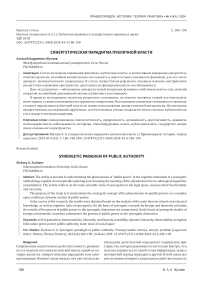Синергетическая парадигма публичной власти
Автор: Жучаев А.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена пониманию феномена «публичная власть» в когнитивном измерении синергетической методологии, способной концептуально исследовать и донести смысл указанного феномена, для его последующего законодательного закрепления. В статье осуществлена рефлексия основных научных инструментов синергетики в правовом пространстве, дана оценка их функциональности и необходимости. Цель исследования - обоснование синергетической концепции феномена «публичная власть» как сложной, открытой, нелинейной, динамичной системы публичного властвования. В процессе исследования получены результаты, основанные на анализе основных теорий постнеклассического знания, а также когнитивных инструментов синергетики. Исследование показывает возможность законодательного определения публичной власти на основе использования синергетической методологии. На основании синергетических исследований зарубежных и отечественных ученых подводятся итоги генезиса публичной власти в синергетическом измерении.
Самоорганизация, гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, неустойчивость, динамической иерархичность, наблюдаемость, метафора, точка бифуркации, власть, публичная власть, государство, зашумление социального пространства
Короткий адрес: https://sciup.org/14132350
IDR: 14132350 | УДК: 34.03 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-186-190
Текст научной статьи Синергетическая парадигма публичной власти
Современная социетальная действительность развивается в моделях постнеклассической науки, одной из которых является синергетическая парадигма или само-организация․ Именно такая модель вот уже несколько последних десятилетий определяет социальное пространство, которое развивается настолько быстро, что, не успев оправиться от одной точки бифуркации, за весьма короткий период переходит к другой․ В этой связи, мы уже не можем измерять социальную действительность со всеми ее противоречиями и кризисами, экономическими, политическими, социальными, геополитическими противоречиями, незыблемыми концепциями, штампами, устоявшимися теориями и т․ п․ То, что является новацией сегодня, уже завтра становится раритетом․ Таким образом, вывод о наличии проблемы, связанной с актуализацией, оптимизацией и функционализацией идеи публичной власти, напрашивается сам собой․ Богатый опыт государственности подразумевает аналогичный среди основных ее инструментов, властных инструмен-тов․ Публичная власть — один из таких инструментов․
Необходимость проведения исследования
Формы государственных образований изобретались веками многочисленными национально-культурными сообществами для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и самодостаточность таких сообществ, постоянно подвергавшихся алгоритмичности развивающегося ми-ра․ Таким образом, сообщества постоянно нуждались в механизмах эволюционной и коэволюционой адапта-ции․ Чаще всего такие механизмы изобретались в правовом пространстве, трансформируя в новую реальность основной государственный инструмент — власть․ Вот и сегодня в условиях нового турбулентного глобализирующегося мира возникает потребность в обновлении такого инструмента, способного регулировать, прогнозировать и развивать социальные процессы, при этом защищая их от нарастающей бифуркационной напряженности, обеспечивать открытость и мобильность социальных систем, защищать эти системы в процессе постоянных трансформаций․
Поэтому сегодня в России особое внимание уделено новационно-научной деятельности, фундаментальным и эмпирическим исследованиям․ Определение «ученый» меняется на определение «дегустатор»․ Голые научные теории, не подтвержденные практикой, уже таковыми не считаются․ исследований․ А самая достоверная практика — социально-экономические потребности социума, которые ежедневно меняются․ Удовлетворить такие меняющиеся потребности возможно только при помощи такого инструмента, как публичная власть․ В то же время, и этот инструмент, являясь элементом правовой системы, находится в синергетической парадигме, он развивается, совершенствуется, трансформируется, образует подсистемы․ О том, как это происходит сегодня, мы и поговорим․
Материалы и методы
Социальная ценность Российского государства определяется огромным количеством субъектов и федеративным устройством․ Поэтому все субъекты должны быть связаны как горизонтально, так и вертикально․ Первое определение подразумевает их синхронное развитие, второе — иерархическую вертикаль власти, устремленную к центру Федерации․ В такой системе публичная власть призвана обеспечивать позитивный процесс, продлевая метафору, позитивный процесс между точками бифуркации, характеризующийся синхронным развитием всех элементов системы, в данном случае — субъектов Федерации․ Дефинитивными признаками метафоры является повышенный уровень ожиданий, достигаемый активностью населения во всех перспективных сферах социальной практики, междисциплинарной коммуникацией, эскалацией мотивационного фона, конструктивными методами достижения и осуществления социально-экономических новаций․ Однако постоянной метафоры не существует․ Диалектический принцип, заложенный в основу синергетической парадигмы, рано или поздно приводит социум к очередной точке бифуркации, в моменте перед которой, и в моменте после, наступает негативный процесс — «зашумление пространства междисциплинарных коммуникаций произвольными, псевдосинергетическими ассоциациями, дальше которых дело не идет» [3, с․ 113–114]․ В этой связи, рассматривая в рамках синергетической парадигмы такой феномен как публичная власть, необходимо учитывать постнеклассические модели современной правовой науки и рациональности, включающей концепты самоорганизации, открытости, сложности, нелинейности и эволюции организационных систем, в полной мере отвечающие социально-политической организации общества и федеративного государства․ Необходимо, прежде всего, понимание того, что детерминистская парадигма уже не отвечает запросам полиструктурного реального мира, в котором динамика развития социума требует, чтобы ее обеспечивала сложная политикоправовая система․
Исследуя генезис публичной власти в России, мы обращались к творчеству множества ученых, как отечественных, так и зарубежных, посвятивших себя изучению данного феномена․
Начнем с зарубежных школ, более ранних, насчитывающих множество кафедр и факультетов, обучающих публичной политике․ Среди таких выделяются американская и европейская научные школы․ Мы не будем перечислять, а, тем более, цитировать многочисленных зарубежных авторов․ Выделим основных․ Американцы, в частности Джеймс Э․ Андерсен, рассматривают публичную власть как «производимую правительственными чиновниками и органами власти и затрагивающую существенное количество людей» [2, с․ 33]․ В понимании ученого публичная власть призвана решать такие социальные вопросы, которые вызывают озабоченность населения, а в лучшем случае не допускать возникновения таких вопросов․ При этом публичная власть принимает и осуществляет государственный курс, являясь инструментом государства․ Отчасти это и есть воплощение мнений большинства ученых Соединенных Штатов по данному вопросу․ Приземленные и практичные американцы немного обесценивают публичную власть в своей стране, направляя ее на повседневную жизнь каждого гражданина, решая такие вопросы, как: здравоохранение, образование, энергетика и природные ресурсы, социальное обеспечение, налогообложение, общественная безопасность и личные свободы, публичная политика․ По мнению А․ Анебе, «публичная политика обычно рассматривается как обозначение поведения некоторого субъекта или группы субъектов, таких как чиновник, правительственное учреждение или законодатель, в такой области деятельности, как государственное предприятие или сокращение бедности» [1, с․ 10]․ Оба определения западных ученых конечно же не находят достаточной рефлексии в российской государственной системе․ Тем не менее являются необходимым дополнением, уточняющим структурные элементы публичной власти․ Публичная власть призвана удовлетворять такие запросы населения, как: здравоохранение, социальное обеспечение, образование, налогообложение, энергетика и природные ресурсы, общественная безопасность и личные свободы в любом обществе, нивелируя протестные настроения, приводящие к социальным кризи-сам․ Такие тенденции характерны и для европейского понимания феномена публичной власти, которое, в отличие от США, больше сосредоточена не на определении понятия «публичная власть», а на методах ее осущест-вления․ По мнению британского ученого Х․ Коулбача, публичная власть «относится не столько к принятию решений, сколько к переговорному процессу» [7, с․ 39]․ То есть европейцы предпочитают, в первую очередь, рассматривать инструментальную составляющую публичной власти, а е ее когнитивную сущность, порой отождествляя оба понятия․
Результаты исследования и дискуссия
В российском социуме публичная власть имманентно присутствовала всегда, но само понятие данного феномена не раскрыто до сих пор․ Ни Конституция Российской Федерации, ни Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г․ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» не дают определения понятию «публичная власть»․ Мы находим его только в заключении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г․ № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“, а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации»1, данного в связи с запросом Президента России, как «единую систему публичной власти», производную от основополагающих понятий «государственность» и «государство» и соотносящимся с пониманием «политический союз (объединение) многонационального российского народа»․ Таким образом, под публичной властью подразумевается единая система органов: федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, а также вся совокупность органов местного самоуправления․ Ключевым словом является «система»․ Таким же ключевым оно выступает и в синергетике, следовательно, единая система публичной власти может действовать в соответствии с основными законами синергетики: гомеостатичностью, иерархичностью, нелинейностью, неустойчивостью, динамической иерархичностью, на-блюдаемостью․ Гомеостатичность обеспечивает саморегуляцию, собственно, это и есть саморегуляция, способность открытой системы быть внутренне постоянной за счет скоординированных реакций, поддерживающих динамическое равновесие, а также способность восстанавливать утраченное равновесие, преодолевая, адекватно не только феномену «публичная власть», но и феномену «власть» вообще․
Наше мнение подтверждает точка зрения таких ученых, как О․ В․ Барышников, А․ Б․ Венгеров, А․ В․ Иванов, В․ А․ Коновалов, Л․ В․ Лесков, В․ А․ Лукъянова, Г․ Г․ Ма-линецкий, А․ П․ Назаретян, В․ К․ Петров, И․ Р․ Пригожин, В․ Н․ Протасов, А․ Н․ Скворцов, И․ Стенерс и других․ Резюмируя мнение ученых, можем заключить, что, прежде всего, само государство выступает в качестве «сложной, открытой, самоорганизующейся, нелинейной системой отношений — особой формой и механизмом организации по осуществлению власти общества, с присущими данной организации, имеющими возможность универсального применения к процессам окружающего мира, законами и закономерностями становления, развития и функционирования» [6, с․ 40–60]․ Форма государства может быть и является динамичной, эволюционирующей и коэволюционирующей, а также открытой для любого гражданина или социальной группы, и, как считает В․ А․ Лукъянова, подверженной «инновациям и реагирующее на них структурными изменениями своего строя, который тем самым, расширяет возможности обновления своего компонентного состава и повышает общую устойчивость в динамической общественной среде» [9, с․ 13–35]․ В соответствии с мнением А․ Б․ Венгерова, «государственную структуру, включающую в себя элементы прошлого и зачатки будущего организационного развития, можно определить как статический образ системы государства в конкретный промежуток времени, где каждый новый способ объединения структур приводит к возникновению нового уровня иерархической организации, ускоряет развитие целого и составляющих его частей» [5, с․ 89–90]․ Такое мнение ученого подкреплено трудами И․ Р․ Пригожина и И․ Стенгерса [10, с․ 204–207], А․ Н․ Скворцова [11, с․ 103]․ Таким образом, генезис сущности государственной организации сегодня немыслим без когнитивного опыта постнеклассической науки, в котором мы эксплицируем теории организации и самоорганизации, модели развития открытых системы, основанные на диалектическом единстве законов эволюции, изменчивости и наследственности качественных показателей, ускоренной трансфор мации во времени и т․ п․ Этот вывод подтверждается
Л․ В․ Лесковым, обратившемся к синергетической крато-логии в когнитивном описании системного общепланетарного кризиса и места в нем России․ Ученый считает, что синергетическая кратология наиболее адекватный прием экспликации «взвешенных и научно обоснованных политических и исторических решений в условиях неопределенности и многовариантности будущего», предполагающих «выработку рационального алгоритма взаимодействия власти и знания в рамках синергетической кратологии с ее методологией прогнозирования» [9, с․ 35]․ Более того, ученый считает, что «это обстоятельство позволяет понять одну из причин, по которой прежде четко ограниченные границы реального мира расплываются «в тумане виртуальных образов, окружающих нас со всех сторон» [9, с․ 47]․ Целесообразность такого подхода видится нам в том, что, власть представляет собой существенный признак государства, имея системообразующее его значение․ В этой связи в качестве фундаментального условия своего функционирования власть должна использовать априорные правила запрета перехода на негативные эволюционные направления, приводящие государство к структурным и системным деструкциям․ При этом власть обязана выражать «нелинейность исторического времени, открытость субъектно-объектных отношений и самоорганизации избирательных воль» [4, с․ 136]․ В этой связи государственная власть никак не может противостоять социальной самоорганизации, поскольку ее статус обеспечивает самосохранения конкретного социума, не позволяя последнему распадаться․ В то же время, самоорганизация включает в себя самые различные микроуровни: от отдельного индивида до организации․ И в этом отношении именно публичная власть представляет собой наиболее актуальную ветвь власти вообще, поскольку обязана регулировать ситуации, ведущие к социальным кризисам, согласовывать частные и общие интересы в конкретном государственном субъекте или субъекте социальной практики․ Таким образом, публичная власть возводится в значение фундирующего, организующего и направляющего вектора государственной власти․ Помимо этого, именно публичная власть выступает в качестве наиболее адекватного механизма государственной власти в негативные периоды, когда социум приближается к точке бифуркации, находится в ней, а затем выходит из нее․ В данном случае точка бифуркации социума подразумевает апогей деструктивного движения социума и может спровоцировать кризис в обществе․ Далее, публичная власть может выступать в качестве основного механизма построения будущей социальной модели в государстве, причем не только ее прогнозирования и проектирования, но и реализации․ Такая функция публичной власти снова связана с многообразием и многокомпонентностью охваченных ею элементов․ Возможно, это последнее утверждение и является причиной того, почему в Основном законе России нет определения феномена «публичная власть»․ Зато, на наш взгляд, именно синергетический подход к законодательному закреплению публичной власти и содержится в вышеприведенном ее определении Конституционным Судом РФ․ Полиэлементность структуры публичной власти, провоцирует ее иерархическое деление не только на государственную региональную и муниципальную, представительную и исполнительную․ Мы считаем необходимым ее аспектное деление на компоненты, в итоге формирующие сам институт публичной власти, а именно: экономический, гражданско-правовой и социокультурный․ Сегодня, на наш взгляд, из-за отсутствия такого деления публичная власть осуществляется хаотично, испытывая многочисленные бюрократические препоны․ Устранить эти препоны возможно очень просто, путем цифроризации всех внешних и внутренних процессов, ведущих чуть ли не к полной прозрачности всех внутриполитических, внутриэкономических и социокультурных практик․ Рано или поздно такая прозрачность наступит повсеместно․ И в этом случае только синергетический подход сможет определить сущность публичной власти, поскольку в когнитивном пространстве такого подхода имманентно присутствует порядок, нарушение которого рушит всю систему․
Воспринимая государство как самоорганизацион-ную систему различных отношений в современном пространстве разнообразных социальных практик, обеспечивающую целеполагаемое развитие такого пространства и характеризующуюся структурной обусловленностью, нелинейной эволюционной динамикой, можем сделать вывод о том, чтоосновным методом изучения и последующего моделирования такой системы является синергетическая методология․ Именно такая методология способна: 1) оптимизировать социальное познание; 2) развить положения диалектики и теории систем, тектологии, кибернетики; 3) сформировать теоретическую модель политико-правового развития; 4) представить понимающего человека, социум и государство как эволюционирующую целостность, с присущими ей детерминизмом, случайностями, устойчивостью и неустойчивостью, организацией и дезорганизацией на микро- и макроуровнях․ Уже сейчас мы являемся свидетелями того, как время устраняет многолетний дискурс относительно публичной власти, поскольку время — это не только мера исторического развития, но и единица системной трансформации энергии, благодаря которой воля отдельного человека априори эксплицируется в как источник энергии всей государственно-правовой деятельности, подвергая ее самоорганизации, системно-структурному упорядочиванию, правовому реформированию и последующему преобразованию․ Такой подход уже не предполагает имущественных отношений, он направлен на установление аттрактора, в соответствии с которым возникают и укрепляются новые ценности, структурируются отношения, конструируются иерархия элементов и т․ п․
Заключение
Таким образом, синергетический контекст представляет публичную власть как ведущий инструмент самоорганизации, фундированный множеством элементов, микроуровневых образований․ В процессе осуществления публичной власти преодолеваются кризисные ситуации, альтернативные моменты, согласовываются частные и общие интересы, определяются основы целеполагания и намечаются аттракторы его продвижения, оптимизируется процесс решения базовых государственных задач․
Список литературы Синергетическая парадигма публичной власти
- Анебе А. Обзор подходов к изучению публичной политики // International Journal of Political Science (IJPS), 2018. Vol. 4, no. 1. P. 8-17.
- Андерсон Д. Публичная политика: введение // Публичная политика: от теории к практике / сост. и науч. редакторы: Н. Ю. Данилова, О. Ю. Гурова, Н. Г. Жидкова. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. 338 с.
- Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 2-е изд., испр. Москва: URSS: Изд-во ЛКИ, 2008. 230 с.
- Буданов В. Г. Трансдисциплинарное образование и принципы синергетики // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов / под ред. В. И.Аршинова, В. Г. Буданова, В. Э. Войцеховича. Москва: Дашков и Ко, 2000.251 с.
- Венгеров А. В. Теория государства и права. Москва: Юриспруденция, 2000. 528 с.
- Коновалов В.А. «Русская система»: фантастический вариант // Россия и современный мир. 2006. № 1 (50). С. 40-60.
- КоулбачХ. Политика. Кто создает политику? // Публичная политика: от теории к практике. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. С. 11-34.
- Лесков Л. В. Знание и власть: Синергетическая кратология. Москва: СИНТЕГ, 2001. 94 с.
- ЛукъяноваВ.А. К вопросу о специфике российской государственности // Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. 2002. № 1. С. 13-34.
- ПригожинИ.Р., СтенгерсИ. Истины близкие, истины далекие... // Фундаментальные исследования. 2005. №2 (часть 1). С. 204-207.
- СкворцовА.Н. Главные направления эволюционного процесса. Морфобиологическая теория эволюции. Москва: Изд-во МГУ, 2017. 201 с.