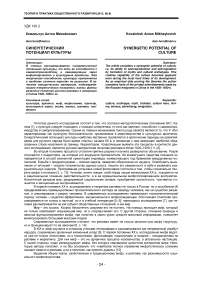Синергетический потенциал культуры
Автор: Ковальчук Антон Михайлович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается синергетический потенциал культуры, то есть ее способности к самовоспроизводству и саморегуляции через мифотворчество и культурные архетипы. Эта творческая способность культуры проявляется в наиболее сложные периоды ее развития. В качестве эмпирического материала, подтверждающего теоретические положения, взяты факты развития печатной русской рекламы в эмиграции в Китае 1920-1930-х гг.
Культура, архетип, миф, мифологема, триксер, культурный герой, анима, анимус, реклама, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/14935591
IDR: 14935591 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Синергетический потенциал культуры
Гипотеза данного исследования состоит в том, что согласно методологическому положению М.С. Кагана [1], к культуре следует подходить с позиции синергетики, то есть как явления, способного к самовоспро-изводству и саморегулированию. Одним из главных механизмов такого рода свойств является то, что К. Юнг характеризовал как культурно бессознательное, проявляемое в мифотворчестве и культурных архетипах. Синергетический потенциал культуры наиболее явственно проявляется в критические периоды ее развития, каким для русского народа было время «смуты» начала ХХ в. и связанная с ним эмиграция наиболее образованных слоев населения за границу. Индикатором, позволяющим выявить эти процессы в контексте данного исследования, является русская эмигрантская печатная реклама в Китае 1920–1930-х гг. [2].
В первой половине ХХ в. исследователи и теоретики рекламы не только в России, но и за рубежом [4] придерживались преимущественно просветительского взгляда на природу человека, как на существо разумное, и апеллировали к разуму человека. В современных исследованиях превалирует психоаналитический подход: человек – существо аффективное, эмоциональное и мифосозидающее. Эта позиция отчетливо просматривается не только в научной, но и в учебной литературе [5; 6], прикладных исследованиях [7], где человек рассматривается не как субъект общественных отношений, а как мир.
Мир – это космос. Космос бесконечен, разумом его не постичь. На помощь приходит миф, который не только охватывает окружающий мир, но и упорядочивает его. С другой стороны, познание природы и законов функционирования мифа, при наличии в своих руках средств массовой информации, позволяет манипулировать большими массами людей.
Современные исследователи считают, что реклама имеет не только аналогичную мифу структуру, но и функционирует по ее законам [8, c. 14].
В ХIХ в. миф изучался в основном учеными-этнографами и рассматривался как непременный атрибут народов, сохранявших архаичный жизненный уклад [9]. С первой половины ХХ в. исследование мифа ведется уже не только этнологами, но и психологами, философами, социологами, а позднее – специалистами по рекламе и маркетингу. Для них миф – это не архаичное прошлое человечества, а актуальное настоящее. С одной стороны, люди репродуцируют мифы, без которых невозможно целостное восприятия мира. Некоторые авторы полагают, и не без основания, что «наиболее полное отражение мифологическое сознание находит именно в рекламе, а не в политике, как принято думать» [10].
Выделим общие черты, свойственные и традиционному мифу, и рекламе, как разновидности социального мифотворчества:
-
1) они осознаются как некая творчески созданная реальность, а не как непонятный внешний мир, угрожающий человеку;
-
2) люди воспринимают рекламу и миф как образ предмета и человека;
-
3) пространство мифа и рекламы сакрально, условно и недоступно;
-
4) они воздействуют чаще и сильнее на подсознание, на иррациональное, чувственное, а не на рациональное понимание предметного мира;
-
5) реализация того и другого происходит не в логических формах мышления, а с помощью художественных образов;
-
6) и то, и другое – способ восприятия реальности;
-
7) овладение миром происходит не через его познание и преобразование, а путем ритуальных действий (только в древности это магия, сейчас – простая покупка вещи).
Полнота анализа требует не только выявление сходств, но и различий между традиционным мифом и современной рекламой. Из всех различий между ними, отметим, по нашему мнению, главное. Миф создавался непосредственно, то есть неосознанно в процессе человеческой деятельности и принадлежит традиционной культуре. Реклама как часть массовой культуры – творение конкретных людей с целью манипуляции, то есть неосознанному подчинению манипулятору больших масс людей для того, чтобы добиться от них нужного ему поведения. Профессия мифодизайнера рекламы – дитя второй половины ХХ в. Его работа строится на научной основе [11]. Таким образом, рекламная деятельность – осознанная деятельность, а не стихийный процесс, следовательно, участвующие в ее создании могут добиться и положительных, с точки зрения интересов общества, результатов, поставив соответствующую цель.
Каждый народ вырабатывает свои мифы. В этом плане мы можем говорить о бесчисленном количестве мифов, созданных когда-либо на земле. С другой стороны, все они укладываются в типологию, ограниченную по числу сюжетных мотивов (космологические, антропогонические, астральные, тотемические и т.д.). Несмотря на определенную ограниченность сюжетов, мифы всесторонне охватывали представления древних об окружающем их мире и о самих себе. Все они содержат наиболее значимые и, следовательно, сакральные для первобытного человека, знания [12]. Характеризуя мифологическое мышление, Б.А. Успенский и Ю. Лотман отмечали, что в мифологическом сознании мир «должен казаться составленным из объектов:
-
1) одноранговых (понятия логической иерархи в принципе находятся вне сознания данного типа);
-
2) нерасчлененных на признаки (каждая вещь рассматривается как интегральное целое);
-
3) однократных (представление о многократности вещей подразумевает включение их в некоторые общие множества, то есть наличие уровня метаописания)» [13].
Мифологическое мышление можно рассматривать как парадоксальное, но никак не примитивное, так как оно успешно справляется со сложными задачами, в том числе и с познанием мира [14].
По К. Юнгу знания, почерпнутые человечеством из мифов, могут быть только достоянием коллективного разума и даны ему объективно в виде архетипов. Термин «архетип» употреблялся еще в античные времена, в смысле прообраза, образца, идеи. У Платона это – умопостигаемый образец или эйдос, у Августина – исходный образ, представляющий основу человеческого познания. Для средневековых схоластиков архетип – это природный образ, запечатленный в уме. Актуализируя этот термин, К. Юнг ссылался не только на древних и средневековых авторов, но и на И. Канта, с его априорными категориями пространства и времени. Заслугой К. Юнга было то, что он соотнес понятие «архетип» с бессознательной активностью психики, которая, наряду с инстинктами, имеет в основании врожденные (априорные) психологические структуры, находящиеся в глубинах коллективного бессознательного. Коллективно бессознательное, по Юнгу, формируется также и из объединенной памяти всего человеческого рода.
Архетип у К. Юнга выступает как когнитивная форма фиксации и трансляции суммарного культурно-исторического опыта, передаваемого биологически, а не через культурную традицию. Он подчеркивал, что наследуются лишь чистые формы, опосредующиеся затем материалом культурного опыта. Однако сам механизм передачи им слабо обоснован. Он избегает четкого и не двусмысленного определения понятия «архетип».
Слабые стороны теории архетипа К. Юнга породили различного рода спекуляции. С одной стороны, можно наблюдать вольную трактовку понятия «архетип», включая в него и бессодержательные формы мышления. Другая крайность, когда под архетипы, предложенные К. Юнгом, всего лишь как формы мышления, жестко подгоняется изображение, в том числе и в рекламе, без учета неоднозначности их трактовки. При этом, налицо натянутость, искусственность таких привязок [15]. Существует также тенденция игнорирования и принижения эвристической ценности теоретических посторенний К. Юнга, в том числе и для понимания феномена рекламы, ее развития и повышения эффективности воздействия. В этой связи резонно замечание Л.Е. Трушиной о том, что применительно к рекламной практике неважно, является учение об архетипах научной теорией или нет. Важна ее действенность, а она очевидна» [16, c. 196]. Правда, очевидность нужно доказывать, привлекая при этом все новые и новые примеры и факты, подтверждающие те или иные положения «очевидного».
А.А. Пелипенко и И.Г. Яковлев, соотнося свои воззрения с К.Г. Юнгом и другими исследователями, выделяют проекционные поля (уровни) смыслообразования, в соответствующей иерархии архетипов по степени их абстракции и универсальности (рисунок 1).
Архетипы Культурный 4 уровень 3 уровень Морфологический 1 уровень
Рисунок 1 – Иерархия архетипов по степени их абстракции и универсальности
Дадим пояснения к предложенной схеме. Первый уровень – числа, представленные в числовом ряде от единицы до трех, далее до семи и тридцати демонстрируют постепенное убывание архетипиальной смыслообразовательной потенции, как первичные, наиболее абстрактные, в смысле проецирования на все поля культуры интенции [17, c. 92–103].
Второй уровень – уровень первичной проекции архетипа в поле визуального образа. Базовыми инвариантными моделями формотворчества в культуре являются: точка; прямая линия; круг; S-образная кривая; треугольник, прямой угол; крест [18]. Сам К. Юнг, говоря об архетипических функциях мандалы [19, с. 25] (круг с вписанными в него крестами, ромбами, квадратами), указывал на то, что таким образом она транслирует идею упорядочения, всеобщности, единства и целостность универсума.
Базовые смыслообразовательные интенции от уровня абстрактной структурно-ритмической дискретности (числа) и их конструктивных проекций в визуально-предметной форме (геометрические фигуры) выходят на третий уровень синтеза – уровень образной антропизации самих «архетипических» интенций. Сюда относятся важнейшие персонификации мифологического сознания: демиург, богиня-мать, дитя, анимус и анима, культурный герой и триксер, тень, мудрый старец [20, с. 338–356].
Все вместе указанные архетипы образуют базовый инвариантный набор ценностных и деятельностных установок в социуме, проявляющихся в виде неосознаваемых поведенческих императивов субъекта.
Четвертый уровень – уровень мифологем (от др. гр. «мифос» – сказание и «логос» – мысль, причина). Термин ввели в научный оборот К. Юнг и К. Кереньи в совместной книге «Введение в сущность мифологии». Они писали: «Искусство мифологии определяется своеобразием своего материала. Основная масса этого материала, сохранявшаяся традицией с незапамятной древности, содержалась в повествованиях о богах и богоподобных существах, героических битвах и путешествиях в подземный мир – повествованиях («мифологема» – вот лучшее древнегреческое слово для обозначения), которые всем хорошо известны, но далеки от окончательного оформления и продолжают служить для нового творчества. Мифология есть движение этого материала: это нечто застывшее и мобильное, субстанциональное и все же не статичное, способное к трансформации» [21]. В этом контексте вполне уместно употребление термина «мифологема» как «мифологический архетип». Мифологемой является и мифологический материал, и, одновременно, материал для образования новых мифов.
Архетипические структуры, по К. Юнгу, лежащие в основе коллективного бессознательного, порождают символические образы , присутствующие практически во всех сферах человеческой деятельности, а, следовательно, и в рекламе. Он выделяет два вида символов: естественные и культурные. Естественные символы, по К. Юнгу, «…происходят из бессознательных содержаний психического и поэтому представляют громадное множество архетипических образов». Культурные символы – «…это, в сущности, те, которыми пользовались для выражения «вечных истин» и которые во многих религиях используются до сих пор. Эти символы прошли через множество преобразований, через процесс более или менее сознательного развития и таким образом стали коллективными образами, приятными цивилизованными обществами» [22].
Синтез дуализированных элементов (онтологически симметричных и функционально ассиметрич-ных) по принципу троичности интерполируется в метамифологему: «рай изначальный-рай потерянный-рай обретенный». Проецирование данной метасхемы в различные образно-ситуативные контексты с последующей детализацией сюжетных мотивов, локальными инверсиями и иными смыслообразующими процедурами создает разнообразнейший набор структурно-семантических вариантов [23].
Все четыре уровня иерархии архетипов по степени абстракции и универсальности группируются: первые два уровня связаны с морфологией, то есть с формообразованием культурного пространства; вторые – с социологией (содержанием) этого пространства. Первые три уровня (поля) относятся к психологическим архетипам, последний – четвертый уровень (поле) относится к культурным архетипам.
Культурные архетипы выступают как базовые элементы культуры, формирующие постоянные, неизменные модели духовной жизни. Они объективны и трансперсональны, так как составляют типическое в культуре. Формирование культурных архетипов происходит, как на уровне всего человечества, так и на уровне культуры отдельных исторических общностей. Согласно К. Юнгу первичные архетипические схемы образов воспроизводятся в мифах и религиозных представлениях, произведениях литературы и искусства. Доказательством существования культурных архетипов, как проявления коллективного бессознательного, является то, что схожие архитепические образы и мотивы возникают в мифах разных народов, никоим образом не соприкасавшихся между собой, ни во времени, ни в пространстве (мифы индейцев Америки и народов Европы, например) [24].
Важнейшей особенностью культурных архетипов является то, что они раскрывают свое содержание не через понятие и дискурс, а через иконические образы, то есть изобразительные формы. Это обусловлено тем, что культурные архетипы явлены в сознании как образы, изобразительные черты которых определяются культурной средой и способом метафорической репрезентации. Следует отметить, что между психологическими и культурными архетипами существует взаимосвязь: значимые для индивидуальной психики архетипические образы в мифологии и художественном творчестве переформировываются в общепринятые культурные архетипы – спонтанно действующие устойчивые структуры обработки, хранения и репрезентации коллективного опыта.
Культурные архетипы, в свою очередь, подразделяются на универсальные и этнокультурные. В качестве универсальных культурных архетипов называют укрощение огня, хаос, брачный союз мужчины и женщины, смены поколений, «золотой век» и другое. Это смыслы-образы, запечатлевающие общие базисные структуры человеческого существования.
Этнокультурные архетипы являются константами национальной духовности, выражающие и закрепляющие основополагающие свойства этноса, как культурной целостности, в контексте нашего исследования – русского народа. В русской культуре доминируют архетипы, существенным образом определяя особенности мировоззрения, характера, его историческую судьбу. Эти архетипы нашли отражение и в рекламе русского зарубежья.
В рамках данного исследования необходимо хотя бы коротко охарактеризовать наиболее часто встречаемые в русской зарубежной печатной рекламе общекультурные и психологические архетипы. Они выражают ценности русской культуры, имеющие общечеловеческий характер, но проявляющиеся в специфических условиях 1920–1930-х гг.
Предварительно следует отметить, что сюжетные линии русской рекламы за рубежом совпадают с теми архетипическими образами, которые были в свое время обозначены К. Юнгом. Однако архетипы коллективного бессознательного не есть сами образы, а лишь чистые формы, опосредующиеся затем материалом культурного опыта. Поэтому трактовать их в буквальном смысле, полагаем, не возможно и не нужно.
Воспроизведение на страницах печатной рекламы Харбина архетипических образов матери и ребенка, относящихся к первой половине 1920-х гг. символизирует вечное понятие материнского счастья, которое было так дорого русским людям, пережившим невзгоды революции, гражданской войны и бегства из Советской России.
В середине 1920-х гг. одним из распространенных видов финансовых услуг в маньчжурской эмиграции было страхование, как имущества, так и самой жизни. Люди, уставшие от невзгод и больших потрясений, хотели обезопасить себя от возможных неожиданностей в будущем. Развитие страхования породило потребность в рекламировании. Обычно, в такой рекламе предстают образы старцев (мудрого старика и старухи или архетип духа), совершивших нужное действо – застраховав себя. Тут же рисуется благодатная картина спокойного будущего (или, наоборот, беспросветной старости, если кто-то не следует предписаниям рекламы). Налицо не только темпоральность, но и футуристичность, действие развивается не от прошлого к настоящему, сколько от настоящего к будущему. Есть и другой вариант этой же темы – благородный стареющий отец благословляет брак молодых, которые перед помолвкой (или свадьбой) застраховали себя. В 1930-х гг. реклама эксплуатирующая архетип Духа не исчезла со страниц печатных изданий русского зарубежья. Наиболее распространенный сюжет – когда мудрая бабушка (или дедушка), внемля голосу разума, воспользовались распродажей и купили необходимые им товары дешевле.
Значение семьи, охраны детства осознавалось нашими соотечественниками особенно остро. Архетипический образ божественного ребенка не сходил со страниц детского журнала «Ласточка», выпускаемого в Харбине. В рекламе напрашивается сама собой символическая связь между «непорочно чистым дитя» и детским мылом. Дети – это воплощение смены поколений, смены старого новым. Их энергия и задор просто вырываются за рамки рекламы шоколада фабрики «Марс», где они бегут счастливыми навстречу «сладким» радостям.
Наиболее часто встречаемый архетип женщины (анима), которая в процессе культурной адаптации архетипа матери превращается в два противоположных образа: кроткой девушки и роковой женщины. Это архетип женщины воспринимаемой мужчиной (анима). Однако между этими двумя крайностями есть множество переходных типов. Это – женщина-домохозяйка, которая не может обойтись без чистящего порошка «Стар» и выходит на демонстрацию. Женщины требуют его не только публично на демонстрации, но и каждая от своего мужа (реклама «Шиворот-навыворот»).
Постепенно образ женщины меняется. Она уже не только фурия-домохозяйка или кроткая русская красавица, но и элегантна, божественно красива, романтична и притягательна. В рассматриваемый период усиливается процесс эмансипации. Женщина не только предмет поклонения, которой рекламируют прекрасные наряды и драгоценные украшения. Она и водитель автомобиля, облаченная в кожаную одежду и шлем с большими автомобильными очками, как это можно увидеть в рекламе австрийской фирмы «Века». При этом она изображена рядом с мужчиной в таком же облачении. Эмансипация имеет и обратную сторону – женщины в рекламе закурили, вместе с мужчинами [25]. Женщины по-прежнему остаются объектом восхищения. Их красота и способность быть красивой повергает мужчин в восторг.
Архетипический образ мужчины в глазах женщины (анимус) не столь вариативен. Правда, на смену солидному и степенному мужчине, колоритному в своем облике, не прочь «выкушать» водочки «Идеал», приходит элегантный, преуспевающий деловой джентльмен, предпочитающий, отдохнуть в компании красивых дам на сунгарийском пляже, так притягательном для всех харбинцев. В 1930-е гг. вместе с элегантностью и суетливой деловитостью исчезает колоритность в облике мужчин. Они на рекламе верхней одежды, стандартны и однотипны.
В классическом мифе превалирует образ культурного героя – главного фигуранта эпоса, как наиболее развитого вида древней мифологии. Указанный архетип также присутствует в рекламе русского зарубежья, но больше некоммерческой. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, реклама товара предназначалась обывателю, который устал от всех потрясений, стремится к мирной жизни и она потакает его желаниям. Во-вторых, образ «культурного» героя с лихвой был представлен на обложках политизиро- ванных изданий зарубежного казачества (излюбленный сюжет «казацкая конная лава»), русских фашистов (редактор К. Родзаевский) и других политических объединений русской эмиграции. Тем не менее, на страницах харбинских коммерческих изданий (журнал «Рубеж», газеты «Заря», «Рупор» и другие) в разделе рекламы можно было увидеть репродукции картины Васнецова «Три богатыря», изображений Георгия Победоносца и Ильи Муромца.
Однако не они были главными персонажами русской рекламы. Предпочтение отдавалась триксе-рам [26]. Триксер в мифологии – сложное явление. Как правило, это не отрицательный герой. Это тот, над которым можно смеяться и даже иронизировать, но в душе жалеть его. Таков «маленький человек», воплощенный в кинофильмах Ч. Чаплина, не сходивших в 1920–1930-х гг. с экранов кинотеатров всего мира, в том числе и русских в Харбине. Почему бы ему, этому «маленькому человеку», не сунуть в рот любимые и популярные в русском Харбине папиросы Торгового Дома «И.Я. Чурина и Ко»? Два знаменитейших уже в 1920-е г. американских комика Лоуренс и Хардли, игравших дуэтом, в рекламе тоже закурили те же русские папиросы. Подшучивание над таким «героем» обычная тема в русской рекламе 1920-х гг. Они и ведут себя соответствующим образом: требуют от вора, вылезающего из обворованной квартиры, оставить в покое любимую пачку папирос, без которой прожить не могут; во время землетрясения выходят довольными из дома с пачкой тех же папирос под рукой и т.д. Триксер – непременный персонаж, «стержень» комического в русской рекламе за рубежом. Это свидетельство оригинальности и неповторимости.
Итак, русская эмиграция 1920–1930-х гг. строила все свои расчеты на мифологеме о непрочности советского строя, его скорейшем падении. Это, в свою очередь, было одним из инвариантов всеобщей метамифологемы («рай изначальный-рай утерянный-рай обретенный»). Надежда на неизбежное и скорое возвращение, основанная более на иррациональной вере, чем на трезвом расчете, тем не менее, питала оптимизм, стремление сохранить «русскость» для возвращения на Родину. Указанная мифологема само-организовала русское зарубежье в наиболее трудное для нее первое десятилетие существования в инокультурной среде – неосознанно проявлялась в архетипических образах русской рекламы. Это ярче всего видно на примере стилистического своеобразия русской печатной рекламы 1920-х гг., где триксер отнюдь не случайность, а имманентно присущее проявление чувства оптимизма, питавшееся вышеназванной мифологемой.
Ссылки:
-
1. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
-
2. Ковальчук А.М., Самсонова Е.М. Русские эмигрантские периодические издания в Китае в первой половине ХХ столетия как рекламные носители // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. № 2 (29). С. 289–293.
-
3. Гуревич П.С. Социальная мифология. М., 1983.
-
4. Сендридж Ч.Т., Фрайбургер В., Ротполл К. Реклама: теория и практика / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М., 1989. 5. Гуревич П.С. Психология рекламы: историко-аналитическое и философское содержание рекламы. Ростов н/Д, 2009. 6. Райгородский Д.Я. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. М., 2007.
-
7. Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы. СПб., 1995.
-
8. Геращенко Л.Л. Мифология рекламы. М., 2006.
-
9. Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифология. Большой энциклопедический словарь. 4-е изд. М., 1998. С. 653–654.
-
10. Притчин А.Н., Теременко Б.С. Миф и реклама // Общественные науки и современность. 2002. № 3. С. 150.
-
11. Ульяновский А.В. Указ. соч.
-
12. Мелетинский Е.М. Указ. соч.
-
13. Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Миф-имя-культура // Избранные труды. Т. 1. Семиотика, история. Семиотика культуры. М., 1994.
-
14. Там же. С. 300.
-
15. Пендикова И.Г., Ракитов Л.С. Архетип и символ в рекламе. М., 2008.
-
16. Трушина Л.Е. Культурфилософские основания рекламной деятельности: монография. Чебоксары, 2010.
-
17. Пелипенко А.А., Яковлев И.Г. Культура как система. М., 1998.
-
18. Там же. С. 92–103.
-
19. Юнг К.Г., Кереньи К. Введение в сущность мифологии. Душа и миф: шесть архетипов. М.-К., 1997.
-
20. Юнг К.Г. Психология образа триксера. Душа и миф: шесть архетипов. М.-К., 1997.
-
21. Юнг К.Г., Кереньи К. Указ. соч. С. 13.
-
22. Юнг К.Г. Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. М., 1991. С. 84.
-
23. Пелипенко А.А., Яковлев И.Г. Указ. соч. С. 138.
-
24. Юнг К.Г. Психология ....
-
25. Рупор (Харбин). 1926.
-
26. Юнг К.Г. Психология … С. 338–356.