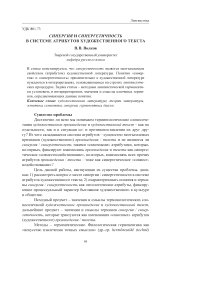Синергия и синергетичность в системе атрибутов художественного текста
Автор: Волков Валерий Вячеславович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье констатируется, что синергетичностъ является неотъемлемым свойством (атрибутом) художественной литературы. Понятия «синергия» и «синергетичность» применительно к художественной литературе нуждаются в интерпретациях, основывающихся на строгих лингвистических процедурах. Задача статьи - методами лингвистической герменевтики установить и интерпретировать значения и смыслы ключевых терминов, опредмечивающих данные понятия.
Художественная литература, теория литературы, эстетика, семиотика, синергия, герменевтика, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/146281577
IDR: 146281577 | УДК: 801.73
Текст научной статьи Синергия и синергетичность в системе атрибутов художественного текста
Исходный предмет – значения и смыслы терминологических словосочетаний художественное произведение и художественный текст , дальнейшие предмет – значения и смыслы терминов синергия / синер-гетичность , которые трактуются как именования «сквозных» атрибутов (художественного) произведения / текста .
Методы – герменевтические. Филологическая герменевтика как «искусство извлечения точных смыслов» (др.-гр. hermēneutikē (technē)
‘искусство толкования или объяснения’ – от hermēneia ‘словесное выражение мыслей, умение изъясняться > разъяснение, объяснение, истолкование, раскрытие смысла’ < hermēneuō ‘разъяснять, растолковывать’) требует наивозможной ясности толкования / интерпретации рассматриваемого словесного материала в строгой логике «вопрос – ответ», «ключевое слово / словосочетание – его толкование / интерпретация» (по ясным процедурам, основывающимся на соотнесении исходных словарных значений языковых единиц и их контекстуальных смыслов).
Порядок размышлений: (лингво)герменевтическая характеристика значений и смыслов отдельных лексем, составляющих словосочетания художественное произведение и художественный текст , затем выявление «конфигураций смыслов», возникающих при синтагматическом и парадигматическом соположении этих лексем.
Терминологическая номинация художественный текст складывается из двух компонентов: художественный и текст . Возможности их истолкования различаются принципиально. Если текст можно достаточно легко определить (например: «всякая записанная речь»), а далее перечислить его существенные свойства (категории), то прил. художественный и соотносительные с ним гуманитарный концепт и понятие «художественность», вероятно, следует отнести к числу так называемых «первичных понятий», которые интуитивно ясны, однако в герменевтическом отношении поддаются лишь относительно свободному (субъективному) разъяснению , но не достаточно строгому определению .
Попытки разъяснения существа художественности «самой из себя» ведут лишь к замкнутой в себе самой оппозиции «художественное ↔ особое состояние эстетического (то есть художественного) сознания субъекта как носителя способности творить / воспринимать художественное». Это синергия герменевтического круга – «круговой структуры понимания». В патристической традиции, восходящей к блаженному Августину: чтобы понимать Священное Писание, надо в него верить, а чтобы верить, надо его понимать. В современном прочтении герменевтический круг – «это процесс бесконечного, “циклического” уточнения смыслов и значений, “самонахождение думающего духа” (Ф. Шлейермахер), движение в рамках оппозиций. Наиболее распространенные случаи: для понимания целого необходимо понять его части, но для понимания частей необходимо иметь представление о целом…» [20, с. 146]. Перефразируя к художественности , можно сказать: чтобы понимать художественное, надо в него верить (что оно художественное), а чтобы верить (что оно художественное), надо его понимать. Каждая из частных оппозиций, в которых художественное находит свое истолкование, может быть осмыслена лишь в контексте целостного эстетического сознания , которое складывается в итоге всего предшествующего опыта эстетического освоения действительности.
Опыт художественного (= эстетического) нуждается в осмыслении через серию категорий, желательно – иерархически и системно упорядоченных. Любое логическое определение, включая определения категорий, основывается на подведении определяемого под какую-либо общую категорию. Если такой категории найти не удается (например, что такое пространство или время , Бог или человек ), то мы имеем дело с «первичными понятиями», которые логическому определению не поддаются; их можно лишь охарактеризовать , перечисляя их атрибуты (лат. attributus , букв. «присоединенное, приписанное», – от гл. attributuere ‘придавать, снабжать, наделять’ < ad… ‘к, на, до’ + tribuere ‘делить; давать, доставлять; даровать’) – постоянные, сущностно необходимые свойства.
Текст . Применительно к «тексту вообще» задача исчисления его основных категорий имеет хотя и непростое, но достаточно ясное решение. Еще на заре лингвистики текста И. Р. Гальперин (1905–1984) предложил список основных текстообразующих категорий, который и поныне не вызывает существенных споров, служит основой дальнейшей разработки проблемы: информативность, членимость, когезия (внутритекстовые связи), континуум, автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция, модальность, интеграция и завершенность текста [5]. Некоторые последующие уточнения и дополнения: цельность и связность ныне рассматривают как «парную» категорию, тесно связанную с хронотопом , вместо «континуум» говорят континуальность (семантическая непрерывность), понятие «модальность», сохранив исходный смысл, развилось в интенциональность , «ретроспекция и проспекция» чаще всего предстают как интертекстуальность и т. д.
Художественность в филологической литературе отождествляют с эстетической функцией языка и произведениями словесного творчества («Понятие худ оже ств енн о сти , как и определение худ о -же ств енный , служит для указания на специфику искусства. Основу специфики искусства составляет его эстетическая природа. Художественность является высшей формой эстетического отношения к миру…» [17, с. 71]).
Но что такое эстетика , эстетическое ? Прекрасное и учение о прекрасном, о красоте? Но что есть красота? Обсуждение этого вопроса выводит, как было показано нами, на понятия эстезис , трансценденция и на вопрос о художнике как особом человеческом типе – трансцендере [3, с. 189–202]. Возможен и другой путь характеристики художественного – через исчисление основных его атрибутов.
Атрибут как «неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни существовать, ни мыслиться» [18, с. 49], следует отличать от категории как такого понятия, «в котором отражены наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения…»
[7, с. 240]. Категорий , в которых характеризуется какой-либо объект, может быть много, атрибутов слишком много быть не может; поэтому атрибуты целесообразно понимать как наиболее существенные, общие категории , выступающие по отношению к остальным как центр терминологического семантического поля.
О категориях художественного
Исчисление основных свойств художественного текста представляет значительные трудности. В обобщающей литературе, связанной с данной задачей, представлен, например, такой набор: отсутствие непосредственной связи с жизнедеятельностью человека, эстетическая функция, имплицитность содержания (наличие подтекста), неоднозначность восприятия, установка не на отражение реальной, а на конструирование возможных моделей действительности [2, с. 114]. В другом варианте: ан-тропоцентричность, социологичность, диалогичность, многослойность содержания, единство внешней и внутренней формы, развернутость и последовательность, статичность и динамичность, напряженность, эстетичность, интерпретируемость и др. [1, с. 40–45]. Разумеется, любой список открыт и потенциально тяготеет к регрессии в «дурную бесконечность», ср. возможные дополнения: имажинативность (образность, от фр. image ‘образ’), фикциональность, фиксация национально-культурных ценностей и особенностей менталитета, социальная (педагогическая, религиозная, эстетическая, этическая и т.д.) ценность, гармоничность содержания и формы (содержательность формы и оформленность содержания), стилистическая цельность, семантическая связность и т.п. Однако это не снимает задачу по возможности отчетливого выяснения: «чтó это такое» – художественность?
Вариант ответа – перечень таких «художественнообразующих» категорий, которые могут интерпретироваться как центральные в общем категориальном поле художественного по той причине, что в их природе усматривается синергетичность: строятся как оппозиции, противоположные члены которых находятся в отношениях взаимодополнительности, вместе составляя синергетическое целое.
Так, диалогичность понимается как субъект-субъектное «диалогическое» целое, «Я–Ты» отношение, связывающее Автора и Читателя как равноправных участников творческого акта, как их конгениальность – единодушие, пребывание автора и читателя в духовном контакте, в логике этимологической внутренней формы конгениальности – «совмест-ногениальность» (из лат. com - в значении совместности ‘вместе с … ’ + genius ‘гений, дух (присущий отдельному человеку, семье, месту и т.п.)’ < от gignere ‘рожать, порождать, производить на свет > причинять, вызывать’), равноспособность порождать новые смыслы.
Антропоцентричность предполагает не просто направленность на человека как на центр интереса, но на синергетическую неразрывность различных частей человеческого существа, в предельном обобщении – чувственного, рационального и эмоционального в их противоречиях (когда, например, «ум с сердцем не в ладу») и в их взаимной необходимости (эмоции обостряют чувственную и умственную восприимчивость, делают их избирательными; человек замечает лишь то и думает лишь о том, что взывает у него эмоциональный отклик).
Интертекстуальность – не только «посреднический» характер данного текста, в силу неразрывности культуры всегда находящегося в положении «между» какими-то другими, но и его, с одной стороны, ретроспективность как «взгляд назад» (< лат. spectare ‘смотреть, глядеть; оценивать’), опора на культурную традицию, с другой стороны, проспек-тивность – «взгляд вперед», намек или инициирование того, что еще только намечается, ожидается.
Синергия художественного текста, разумеется, не столько «внутри» каждого из сложноорганизованных его свойств – категорий, сколько в их межкатегориальном взаимодействии, создающем разнообразнейшие переплетения взаимосвязей, в многообразии которых и кроется «особая тайна» художественного . Термин синергетичность целесообразно рассматривать как однословную интерпретацию понятия « целостность, цельность » художественного текста. В характеристике В.И. Тюпы: «Эстетическое переоформление чего бы то ни было является его оцельнением – приданием оформляемому завершенности (полноты) и сосредоточенности (неизбыточности). <…> Предметом эстетического “утверждения” выступает единичная целостность личностного бытия: я-в-мире – специфически человеческий способ существования (внутреннее присутствие во внешней реальности)» [16, с. 30–31]. Целостность основывается на единстве различного, в целостности противоположности не «снимаются», а «охватываются» единством более высокого порядка, чем составляющие его элементы.
Об атрибутах художественного
Поскольку художественность , в отличие от текста , – в числе первичных понятий, то задача ее характеристики – не только исчисление «художественнообразующих» категорий , но и задача поиска основополагающих, фундаментальных атрибутов .
Поиск простых и ясных характеристик художественного – задача совсем не новая. Один из возможных путей – через противопоставление того, что заведомо осознается как «художественное», – тому, что «художественным» заведомо не является. Так, Ю.М. Лотман в статье «О содержании и структуре понятия “художественная литература”» (1973)
пояснял: «Самоосмысление литературы начинается с исключения определенного типа текстов. Так начинается разделение на “дикие”, “нелепые” и “правильные”, “разумные” тексты в эпоху классицизма, на “словесность” и “литературу” у Белинского в 1830-х гг. (в дальнейшем это противопоставление получит другой смысл и за словесностью будет признано право тоже считаться литературой, хотя особой ценности – “беллетристикой”). Наглядный пример – совмещение понятия “литература” с одним из полюсов оппозиции “стихи – проза”, причем противоположный объявляется нелитературой» [9, с. 778]. Эти оппозиции ныне производят впечатление некоторой наивности, но задача выявления на их основе, пусть и «в первом приближении», корпуса художественных текстов, представляющих безусловную ценность, решается, они и по настоящее время служит основой разграничения «элитарной» и «массовой» литературы (и искусства в целом), беллетристики как «изящной словесности (фр. belles-lettres , букв. «изящная словесность» – от beau , belle ‘красивый, прекрасный’ + lettre ‘буква > письмо, послание; записка’ > мн.ч. lettres ‘филология; литература’ < лат. littera ‘буква; почерк, рука’) и «серьезной, большой» литературы, ориентированной не на коммерческую, а на художественную ценность. Центральный атрибут «большой» литературы – синергетичность .
Термин синергúя и производные от него ( синергетичный > синер-гетичность ) в контексте наших задач целесообразно прочитывать двояким образом:
– во-первых, в значении, основывающемся на древнегреческом этимоне: др.-гр. synergia ‘сотрудничество, содействие, помощь; соучастие, сообщничество’ [6, с. 1568], – из прист. syn - ‘вместе с … ’ + сущ. ergon ‘труд, работа; действие’, в калькирующей формулировке – «совместнодействование»;
– во-вторых, в контексте инициированной С.С. Хоружим концепции «синергийной антропологии»: где термин синергия прочитывается «…от византийского богословского понятия синергии, означающего гармоническое сообразование-соработничество двух энергий, Божественной и человеческой…» [19, с. 6].
Синергия – в числе понятий, отражающих как фундаментальные черты человеческого мировосприятия и «мироповедения» в целом (ср. такие квазисинонимы, как кооперация, объединение, коллективизм, сотрудничество, соработничество, далее аттракция как «взаимопритяги-вание», резонанс, симпатия, эмпатия и т. п.), так и коренные ментальные особенности христианства, – с тем существенным уточнением, что в христианской традиции имеется в виду «совместнодействование» Бога и человека, взаимослиянность Божественной и человеческой воли, а в секулярной традиции – совместнодействование в тварном мире феноменов различной природы: в обществе – отдельных людей и их сообществ, в природе – различных ее составляющих (например, в экосистемах).
Термин синергетичность , как явствует из его словообразовательной внутренней формы ( синергетичный < синергетика < синергия ), следует прочитывать с учетом следующих соображений:
– во-первых, сущ. синергия – это имя действия, синергетичность – имя свойства; применительно к художественному тексту / произведению – неотъемлемого, сущностно значимого свойства (атрибута), обусловливающего возможность действия;
– во-вторых, термин синергетичность связан с синергетикой как учением о самоорганизации и саморазвитии сложных систем различной природы – биологических, социальных, эстетических и т.д. Применительно к художественному тексту / произведению термин синергетичность призван подчеркнуть, что имеется в виду эффект многократного усиления разнородных взаимосвязанных факторов за счет их совместнодействования, – не по принципу «сложения», а по принципу «возведения в степень».
Результат литературного художественного творчества в общем случае именуется существительным произведение .
От художественного произведения (романа, стихотворения и т. п.) следует отличать художественный текст (того же самого произведения ).
Произведение , следуя логике внутренней морфемно-словообразовательной формы этого слова, с учётом омонимии корня вед - ( ведать ‘знать’ и вести / веду ‘помогать / помогаю двигаться в определенном направлении’), – то, что произведено < из-вед-ено , «извлечено» из вéдения (из знаний, опыта, по глаголу ведать ) его автора и облечено в текст произведения как оболочку явленного в нём (тексте) вéдения (ср. соотносительность: облечь – оболочка ).
Произведение как продукт вéдения (знаний, опыта, интуиции и т. п.) по отношению к опредмечивающему, «облекающему» его тексту, – это то вéдение , опредмеченное в слове и тексте, что скрыто за словом и текстом, содержится «внутри» слова и текста, – то, что текст держит внутри себя как своё со-держ-ание .
Суммарно: текст произведения = словесная оболочка содержания произведения как продукта вéдения автора произведения.
Приставка со -, как носитель значения совместности (ср: сокурсник, соученик, соработник ), в слове содержание намекает на «совмест-но»- держание .
Отсюда вопросы: кто? – с кем? (вместе) – «держит» содержание произведения внутри опредмечивающего это содержание текста?
Важно: любое содержание существует лишь постольку, поскольку есть кому понять это содержание. Вне субъекта / субъектов понимания содержание не существует, – есть лишь последовательность каких-то то ли черточек и палочек, то ли значков чего-то (букв?), содержание которых неизвестно.
Понимание – это процесс знакового (семиотического) взаимодействия субъекта понимания с текстом как носителем содержания и с самим содержанием текста – через слова и текст, опредмечивающий данное содержание.
В самом общем случае «понимающих» – двое: автор и читатель.
С одной стороны, на творческом «входе», в акте творения текста (акте облечения содержания / произведения – в текст), – автор.
С другой стороны, на творческом «выходе», в акте чтения / восприятия текста (акте извлечения содержания / произведения – из облекающего его текста), – читатель.
И автор, и читатель действуют синергетически , то есть в ситуации синергии – совместнодействования.
Совместного действования – кого-чего – с кем-чем ?
Во-первых, автор и читатель совместнодействуют друг с другом и с произведением, через посредничество текста произведения , – дистанционно-диалогически.
Во-вторых, автор и читатель совместнодействуют внутри самих себя, каждый с самим собой и с произведением, через посредничество текста произведения , во внутреннем диалоге – «автодиалоге», аутокоммуникативном совместнодействовании различных частей своего «я», – непосредственно-диалогически, осознавая это совместнодействование или (как правило) не осознавая его.
Рассмотрим эти два аспекта синергетичности последовательно.
I. Взаимодействие автора с читателем / читателя с автором опосредуется текстом / произведением , – в соответствии с базовой схемой любого речевого / коммуникативного акта, в минимуме складывающейся из трех последовательно полагаемых компонентов, в рамках которых именование произведение в целях удобства презентации проблемы целесообразно перевыразить через обобщающий квазисиноним информация . Получаем:
-
1) отправитель сообщения (информации, «произведения»): говорящий / пишущий, – «автор»;
-
2) информация / «произведение»: (языковой) код / текст произведения на данном коде (в литературном творчестве – на естественном языке);
-
3) получатель сообщения (информации, «произведения»): слушающий / читающий, – «читатель».
Суммарно: автор – текст / произведение – читатель.
Опираясь на квазисиноним информация , применительно к приведенной базовой трехкомпонентной схеме получаем вопрос: где находится «сама информация», то есть «само произведение» – у отправителя (автора), у получателя (читателя), в тексте / «произведении» или является принадлежностью акта коммуникации / чтения в целом?
Поиск ответа приводит к следующим вариантам понимания дистанционно-диалогического взаимодействия автора – через посредничество текста произведения – с читателем.
-
1. Информация / «произведение» – это результат деятельности автора как «источника / инициатора» диалогического взаимодействия.
-
2. Информация / «произведение» – результат восприятия (понимания / интерпретации) читателем текста произведения , который ( текст ) вне читательского восприятия / понимания оказывается лишь набором непонятных значков.
-
3. Информация / «произведение» содержится в самом тексте произведения независимо ни от автора, ни от читателя – ни от «посыла», ни от восприятия; текст произведения может скитаться невостребованным по пыльным полкам библиотек в течение многих столетий, но это не значит, что содержащаяся в нем информация / «произведение» не существует.
-
4. Информация / «произведение» «оживает» лишь в живом акте взаимодействия автора – через посредничество текста произведения – и читателя, которые, пользуясь общим им обоим языковым кодом, вступают в информационный контакт, в результате которого когнитивные (включая ценностно-эмоциональные) структуры читателя некоторым образом видоизменяются, в идеале – приходят в некоторое соответствие со структурами автора. Наглядным примером за пределами художественной литературы может служить, с одной стороны, штабная карта у генерала, отражающая расположение войск, намеченное, предположим на завтра, приказ войскам переместиться в нужное время в нужное место и – реальное расположение войск на следующий день, которое, вероятнее всего, стало вполне соответствующим тому, что вчера еще только было намечено штабом.
В зависимости от того, на каком из аспектов дистанционно-диалогического взаимодействия автора – через посредничество текста произведения – с читателем мы сосредотачиваем внимание, мы ищем ответы на разные вопросы – фактически о разных видах синергии: 1) о синергии художественного творчества (автор); 2) о синергии восприятия, понимания и интерпретации (читатель); 3) о синергии «самого» текста / «произведения»; 4) о «суммарной» дискурсивной синергии живого взаимодействия всех участников художественной коммуникации.
Эти вопросы фиксируют задачи разных научных дисциплин – как собственно филологических, так и в разной детализации включающих филологическую составляющую. Ограничимся предельно краткими пояснениями.
-
1. Проблема синергии художественного творчества (автор) может быть сведена к вопросу, как выразить, («опредметить» в слове) имеющееся содержание, наличный замысел (< от замыслить < мыслить ↔ мысль ). Культурная традиция свидетельствует: всему начало – мысль. Сущ. мысль фиксирует некоторое неопределимое «первичное понятие», и внутренняя форма соотносительного глагола мыслить тавтологична: мыслить – значит «иметь мысль ». Семантику приставки за - в замыслить ( < мыслить ) целесообразно прочитывать, по данным «Русской грамматики», как «“совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, названное мотивирующим глаголом”: заготовить ‘приготовить заранее, впрок’, запланировать …» [14, с. 360]. Развивая это соображение, получаем, что замысел может восприниматься как нечто, предшествующее мыслить ↔ мысль . Получается, что автор, который мыслит , имеет дело с замыслом , находящимся вне его самого. Это традиционный для культуры мотив / проблема творческого импульса как приходящего извне.
-
2. Проблема синергии восприятия, понимания и интерпретации (читатель): как понять / интерпретировать («распредметить» слово >) полученный текст. Восприятие и понимание в общем случае зависит от своеобразия воспринимающего «я» и культурного фона, в это «я» вписанного. Понять – значит синергетически согласовать мир своего «я» с миром поначалу чужого текста / «произведения» и прожить его так, словно он родился в тебе самом. По точной формулировке М.К. Мамардашвили (1930–1990), классика отечественной философской феноменологии, «бытие симфонии, как и бытие книги, – это бытие смысла внутри существ, способных выполнить смысл» [10, с. 22]. Как вне исполнения нет симфонии, а есть лишь набор знаков на нотном стане, так вне понимания и книга – только набор слов и знаков препинания.
-
3. Проблема синергии «самого» текста / «произведения»: каковы закономерности кодировки информации / «произведения», то есть закономерности взаимодействия языковой системы и речевой деятельности в рамках текста как «конечного продукта» их «сотворчества». Самая лаконичная формулировка этой проблемы принадлежит А.А. Потебне: «Мысль и язык» (1862). Самая удачная, на наш взгляд, «развертка» этой формулировки – И.А. Мельчуку (1974): «Естественный язык – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы» [12, с. 9]. Сказано хорошо, но безнадежностью веет уже исходное сомнение: если бы только знать, чтó это за «смыслы», возникающие в сознании, кем и как они «задаются / заданы»…
-
4. Проблема «суммарной» дискурсивной синергии живого взаимодействия всех участников художественной коммуникации: в чем существо воздействия информации / «произведения», переданной автором – через посредничество текста произведения – читателю. Проблема – вечная, попыток ее решения – множество, удовлетворительного – нет. Перспективными представляются, как мы показали в работе [4, с. 9–20], идеи «философии диалога» Мартина Бубера (1878–1965), центральная идея которой в том, что бытие – это диалог , что жизнь человека проходит в диалоге с Другими. Способ обозначения, избранный Бубером для именования этого фундаментального принципа человеческого бытия, – «составные слова» Я – Ты и Я–Оно , фиксирующие соответственно отношения соединенности с Другим и отчужденности от Другого.
-
II. Аутокоммуникативное совместнодействование слагаемых «я» автора / «я» читателя , – в рамках отечественной культурно-цивилизационной традиции целесообразно рассматривать на базе того представления об устроении человека, которое, следуя святоотеческому учению, усвоила современная православная антропология. В предельно сжатой формулировке – трихотомия: тело, душа, дух , – где дух – «высшая часть души, направленная на общение с Богом, наделенная бессмертием» [15, с. 132]. Существо динамической связи между душой и телом, которая явственно просматривается в продуктах творческой деятельности (автора) и их рецепции (читателем): «Если душа стремится к богоугодной жизни, то утончается, то есть одухотворяются и душа, и тело человека, и наоборот, если человек привязывается ко греху, то грубеет и телом, и душой…» [8, с. 54].
В секулярной литературе с христианским учением об устроении человека хорошо соотносится (также в основе «трихотомическая») модель гуманистической психологии, известная как «пирамида Маслоу», ср. слагаемые иерархии потребностей (ценностей): витальные – социальные – бытийные . «Бытийные ценности», «метапотребности», по А. Маслоу, – это перечень качеств личности, который, при всей произвольной условности, хорошо перекликается с понятием «совершенный человек» в православной антропологии, ср.: «…лучшие и наиболее “естественные” категории классификации практически полностью являются абстрактными “ценностями” предельного, нередуцируемого характера, такими ценностями, как истина, красота, новизна, уникальность, справедливость, лаконичность, простота, доброта, аккуратность, эффективность, любовь, честность, невинность, совершенство, порядок, элегантность, рост, чистота, подлинность, покой, мир и т. п.» [11, с. 344].
Принимая, что личность автора, его «я» – это «личность, явленная в тексте / произведении», что «я» автора как бы «вплавлено» в ткань текста / произведения, мы оказываемся перед задачей выяснить: что именно, в каких своих конкретных слагаемых «вплавлено» – телесное (витальное), душевное (социальное), духовное (бытийное)?
Аналогично о читателе. Вывод: в «я» автора / читателя и, далее, в тексте / произведении – что именно и как именно синергийно совместно-действует?
Итоги и перспективы
Художественность – живой феномен эстетического сознания, в силу своей «первичности» не поддающийся ясному определению, схватываемый лишь интуитивно. Синергийность художественного – проявление его целостной расчленененности / расчлененной целостности, включающей в себя и нас, реципиентов, как свою органичную часть, без возможности для нас вполне ясно осознать, во чтό же именно мы оказываемся включенными.
Не стоит отчаиваться. Еще в XIX веке К.П. Победоносцев (1827– 1907), по устоявшимся представлениям, «реакционер», но человек выдающегося ума, в работе «Духовная жизнь» (в составе книги «Московский сборник», первое издание 1896 года) писал: «Один разве глупец может иметь обо всем ясные мысли и представления. Самые драгоценные понятия, какие вмещает в себе ум человеческий, находятся в самой глубине поля и в полумраке; около этих-то смутных идей, которые мы не в силах привести в связь между собою, вращаются ясные мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. <…> Неизвестное – это самое драгоценное состояние человека… <…> Кажется даже, что главное действие красоты, которую мы видим, состоит в возбуждении мысли о высшей красоте, которой не видим, и очарование, производимое, например, великими поэтами, состоит не столько в картинах, ими изображаемых, сколько в тех дальних отголосках, которые они будят в нас и которые идут из невидимого мира» [13, с. 478–479].
Синергетичность: «резонанс» художественного произведения, его пафоса (эмоционально одушевленной идеи), – и тех ответных душевных движений, которые это произведение вызывает у реципиента.
Единство замысла / реализации – и восприятия / интерпретации. «Резонанс» – кого-чего? – «настроенностей»: произведения как в-себе-са-мом-сущего субъекта и реципиента – как субъекта, оказывающегося в отношении Я – Ты с произведением. « Ты -отношение» – это отношение (в меру возможного) отождествления содержания произведения и его реципиента.
Следовательно, художественно в собственном смысле слова только то произведение, которое вызывает такого рода резонанс. «Резонансы» – разнокачественные: витальные – социальные – бытийные , когда «резонируют» тело – душа – дух , в дизъюнктивных либо конъюнктивных отношениях между собой, – в разделенности либо в синергийном совместнодействовании.
Об авторе:
Tver State University the Department of Russian Language
The author proves that the synergisticity is the integral property (attribute) of the fictional literature. The concepts of “synergy” and “synergisticity” in relation to fictional literature need to get interpretations based on strict linguistic procedures. The objective of this paper is to reconstruct meanings and implications of the key terms that verbalize these concepts, on the basis of methods employed in linguistic hermeneutics.
Список литературы Синергия и синергетичность в системе атрибутов художественного текста
- Бабенко Л. Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник, практикум. М.: Флинта: Наука, 2005.496 с.
- Валгина Н. С. Теория текста: Учеб, пособ. М.: Логос, 2003. 280 с.
- Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного знания: Учеб, пособие / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 220 с.
- Волков В. В., Волкова Н. В. Три лирических героя в поэтическом творчестве иеромонаха Романа (Матюшина-Правдина) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 9-20.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Ком- Книга, 2007. 144 с.
- Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. 1909 с.
- Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. 720 с.
- Леонов В., прот. Основы православной антропологии: учеб, пособие. М.: Изд-во Моек. Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 456 с.
- Лотман Ю. М. О содержании и структуре понятия "художественная литература" // Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958- 1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С.774-788.
- Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 416 с.
- Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл: Альпина нонфикшн, 2011. 496 с.
- Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл Текст": Семантика, синтаксис. М.: Наука, 1974. 315 с.
- Победоносцев К.П. Государство и Церковь: в 2 т. Т. 2. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2011. 624 с.
- Русская грамматика: в 2 т. / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. 1. М.: Наука, 1980. 783 с.
- Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. М.: Астрель: ACT, 2008. 447 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб, пособие. М.: Академия, 2009. 336 с.
- Фесенко Э.Я. Теория литературы: учеб, пособие для вузов. М.: Акад. Проект, Мир, 2008. 780 с.
- Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001. 719 с.
- Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 408 с.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Гл. ред. и сост. И.Т. Касавин. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 1248 с.