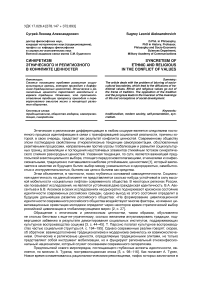Синкретизм этнического и религиозного в конфликте ценностей
Автор: Сугрей Леонид Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 17, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме размытия социокультурных границ, которое приводит к диффузиям традиционных ценностей. Этнические и религиозные ценности перестают находиться в каркасе традиции. Отмечено, что противопоставление традиции прогрессу приводит к переворачиванию смыслов жизни и концепций развития общества.
Традиционализм, общество модерна, самопрезентация, синкретизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14937472
IDR: 14937472 | УДК: 17.026.4:[378.147
Текст научной статьи Синкретизм этнического и религиозного в конфликте ценностей
Этническая и религиозная дифференциация в любом социуме является следствием постоянного процесса идентификации в связи с трансформацией социальной реальности, причины которой, в свою очередь, предстают как результат конфликта ценностей. Современному обществу эпохи постмодерна свойственны этнорелигиозные тенденции самопрезентации, обусловленные реактивными процессами, направленными против угрозы глобализации и размытия социокультурных границ, ассимиляции и поглощения неустойчивых элементов стихийным потоком синкретического слияния разнородных ценностей. Указанная тенденция, по сути, является важнейшей предпосылкой экзистенциального выбора, стоящего перед основополагающими, этническими и конфессиональными, традиционно считавшимися наиболее устойчивыми, ценностями [1], который заключается в качестве их будущего бытия: выбор между уникальностью и однородностью, самобытностью и инструментальностью, бытием как цели и бытием как средства.
Этим объясняется, в частности, поиск глубинных оснований самоидентичности. Социальная идентичность на данный момент не представляется сколько-нибудь устойчивой в силу высокой мобильности «социальных лифтов» современного общества. В некоторых регионах России, как показывают исследования, не является устойчивой даже гражданская идентичность. В.А. Авксентьев и Б.В. Аксюмов в своих исследованиях неоднократно подчеркивают кризисное состояние идентичности современных российских граждан, однако выход из этого состояния определит в будущем дальнейшее развитие российского общества: «На формирование цивилизационной идентичности современного российского общества воздействуют многие факторы, но именно цивилизационные ориентации молодежи определят через некоторое время стратегический выбор российской цивилизации в глобализирующемся мире» [2, с. 27].
Обращение к этническим и религиозным ценностям, таким образом, обусловлено не столько бегством к еще-не-утраченному, сколько желанием актуализировать традиции, подвергшиеся забвению в результате демонтирования социальных институтов, поддерживающих культурное воспроизводство социума [3, с. 44–45]. Т. Парсонс полагал культурное воспроизводство частью социальной структуры [4, с. 194–195]. Однако современные реалии говорят, скорее, об обратном: взаимодополнение традиционализма и модернизма сменилось их взаимоисключением. Этнические и религиозные ценности, определяемые традиционными элитами, не только представляют собой инструмент мобилизации, но и фундируют региональный этноконфессио-нальный национализм, который служит основанием современного сепаратизма.
Идентичность как таковая есть экзистенциальная здесь-и-сейчас тождественность. Именно так определяет ее испанский социолог М. Кастельс – как «процесс конструирования смысла на основе совокупности культурных признаков, которые обладают приоритетом по отношению к другим источникам смысла» [8, p. 32]. М. Кастельс выделяет три вида современной идентичности: (1) легитимирующую идентичность, связанную с «непосредственной рационализацией» индивидом своей принадлежности к доминирующим социальным институтам; (2) резистивную идентичность (идентичность сопротивления), предполагающую развитие механизмов сохранения самости в ситуации доминирования чуждых индивиду идентификационных императивов; (3) проективную идентичность, основанную на индивидуальном и коллективном «строительстве» новых идентичностей из существующего культурного «материала» [9].
Конфессии, подобно политическим партиям и гражданским ассоциациям, могут сформировать лишь традиционную, или легитимирующую идентичность, суть которой сводится к поддержанию существующего социального порядка и традиционного уклада. М. Кастельс полагает, что данная форма идентичности не несет в себе конструктивного потенциала, так как призвана, скорее, поддерживать политические решения, чем противостоять им [10, p. 9]. Резистивная идентичность, или идентичность сопротивления, формируется в результате реакции на диктат господствующих ценностей. Идентичность сопротивления – это фаза любой формирующейся идентичности, которая может перерасти в идентичность проективную, или идентичность, устремленную в будущее. Такая проективная идентичность, согласно М. Кастельсу, может лечь в основу институционального строительства в эпоху глобализации [11].
Этническая и религиозная резистивность, проявляющаяся, в частности, в виде сетевого трайбализма, неизбежна в силу глобализации. М. Кастельс отмечает при этом, что потенциал идентичности, устремленной в будущее, заложен в первую очередь в социокультурных сообществах – религиозных, национальных, территориальных, в которых традиции играют ведущую роль.
Идеи М. Кастельса, впрочем, вряд ли можно назвать фундаментальными, поскольку он не проводит различия между собственными и отчужденными ценностями. Информационная компонента современного общества – это всего лишь инструмент, а не основное содержание нашей эпохи. Помимо информатизации, мы вправе говорить о дефиците ресурсов, транснациональных корпорациях, противоречии между космополитическим и международным правом [12] и других аспектах современности. Поэтому экспликация теории информационного общества в плоскость культурных форм идентичности нам представляется авторским допущением.
Ценностная структура личности состоит из нескольких подсистем. Условно разделим их на внешние и внутренние, глубинные. К внешним можно отнести социоматериальные ценности, такие как досуг, потребление, здоровье, карьерный рост и пр., к внутренним – духовные ценности, в частности этнические и конфессиональные. Достоинством традиционных обществ является принципиальное невмешательство в индивидуальные системы ценностей. Индустриальные общества активно вмешиваются в социоматериальный уровень ценностной структуры индивидов. Результатом такого вмешательства явилось общество потребления, в котором материальные потребности и социальные, обслуживающие материальные, были полностью взяты под контроль политической структурой социальных систем. Общество потребления – управляемое общество, лишенное оппозиции [13, c. IX–XXI].
Постиндустриальное общество, осознав недостаточность новых форм контроля, решило перейти в новую фазу управления – управления духовными потребностями. В этом случае вполне уместно согласиться с М. Кастельсом, полагавшим культурные формы протеста бунтом против нового миропорядка, новой власти, решившей посягнуть на сокровенное. Однако М. Ка- стельс не указывает на то, что государства, образованные в результате антиреволюций, - первые враги постиндустриальной власти, не способные в силу этого сменить идентичность сопротивления на проективную идентичность.
Не стоит, впрочем, рассматривать постиндустриальные общества как общества, лишенные этнических и конфессиональных ценностей. Напротив, они присутствуют в этих обществах, однако эти ценности несамостоятельны, они утрачивают истинное лицо и отчуждаются от общества. Теперь этнические и конфессиональные ценности - ресурсы управления наряду с другими ресурсами. Социальная система состоит из живых элементов, способных к самопроизвольным действиям и самоорганизации; она гомеостатична и связана с другими системами, но лишь постольку, поскольку она добровольно установила эту связь [14, с. 329]. Таким образом, синкретический пакет ресурсов управления формируется в первую очередь из соответствующих индивидуальных ценностей и потребностей.
События последних двух десятилетий показывают, что многие государства на рубеже XXI в., оказавшись в состоянии абъекции [15] после распада привычных центров силы и опоры, подверглись идейной реификации. Используя категории философии постструктурализма, отметим, что это привело к развитию ризомы, то есть системы, представляющей собой не что иное, как проявление симулякров «обожествленного прошлого» или «туманно-вожделенного будущего». К сожалению, происходящая духовная нонселекция поколения XX-XXI вв. послужила причиной кровавой материальной практики реализации нониерархии социальных структур.
Социум в результате ценностной абъекции попадает в новое поле экзистенциального самоопределения. Сущностно-абъективное отчуждение лишает социум самого себя, а конструирование идентичности порождает новые витки бессмысленного насилия. Как следствие политикокультурного диктата, сконструированный социум лишается жизненной силы, не только утрачивает свободу управления социоматериальными ценностями, но и теряет экзистенциальный смысл своего бытия. Идентичность, устремленная в будущее, оборачивается утопией. Утопичным нам представляется и фраза Н. Лумана о том, что мир сегодня находится «...в фазе турбулентной эволюции без предсказуемых результатов, а не в фазе “постистории”» [16, с. 140], поскольку Н. Луман скрывает за неопределенностью надежду. С точки зрения политического самоуправства глобализованный мир не представляет собой диссипативную структуру, а, скорее, является площадкой для социокультурных экспериментов.
Речь идет не столько о том, что межэтнические и межконфессиональные конфликты лишены своей сущности, поскольку этнос и конфессия являются продуктом конструирования идентичности со стороны индивидов и инструментом управления в руках политических элит [17]. Сущность данной проблемы заключается, скорее, в конфликте номинально одинаковых, но содержательно не имеющих ничего общего друг с другом ценностей. Истинные этнокофессиональные ценности восприняты и осознанны; эти ценности - результат выбора в момент экзистенциального кризиса. Ложные ценности - это те же ценности, отнятые у общества и возвращенные ему под видом истинных. Реальность такова, что духовные ценности различных социумов попали в «плавильный котел» глобализации [18], а это в свою очередь означает, что конструкт единичной идентичности рано или поздно сменит конструкт идентичности глобальной. Таким образом, конфликт истинных и ложных этнических и конфессиональных ценностей в современном мире не только теоретически возможен, но и практически неизбежен.
Истинные этноконфессиональные ценности зиждутся на традициях общества, они самостоятельны и конкретны. В свою очередь ложные ценности являют собой синкретическое соединение этнических, конфессиональных, глобальных и иных ценностей. Синкретизм ценностей -не реакция, но продукт глобализации, поскольку сообщества, неспособные вернуть в силу различных исторических причин традиционные ценности, попадают в абъективную ловушку глобализации, создающую таким сообществам иллюзию свободно принятых этнических и конфессиональных ценностей. Вопрос в том, кто их вернул: само общество вновь обрело их, обратившись к традициям, подобно Ирану в 1979 г., или их вернул кто-то извне, агент глобализации (подобно событиям на Украине 2014 г.). Из этого следует, что решающую роль в конфликте ценностей играет устойчивость традиций, способная стать основанием для этнической и конфессиональной идентичности и противодействовать культурной ассимиляции в глобализованном мире.
Подводя итог нашего краткого исследования, резюмируем, что в настоящее время, да и в реально обозримом будущем, определяющим будет особый вид идентичности, а именно традиционалистский, в котором в полной мере проявится синкретизм этнического и религиозного. При этом, полагая корроборированность данной гипотезы (выражаясь языком категорий философской системы К. Поппера), необходимо признать, что традиционализм как социальная философия этноса продолжает репрезентировать себя в различных модификациях объективной реальности.
Ссылки и примечания:
-
1. См.: Сугрей Л.А. Традиционализм как социальная философия этноса : монография. Пятигорск, 1999. 340 с.
-
2. Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В. Портфель идентичностей молодежи Юга России в условиях цивилизационного выбора // Социологические исследования. 2010. № 12. С. 18–27.
-
3. Паин Э.А. Вызовы культурного разнообразия, традиционализм и модернизация России // Вызовы XXI века: природа, общества, пространства. М., 2012. С. 37–52.
-
4. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 880 с.
-
5. Турен А. Идея революции // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13, № 1. С. 98–116.
-
6. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994. 368 с.
-
7. Турен А. Указ. соч. С. 116.
-
8. Castells M. The Power of Identity // The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2. Malden ; Oxford ; Carlton, 2004.
-
9. См.: Санина А.Г. Информационное общество и государственная идентичность // Информационное общество. 2013. Вып. 6. С. 9–15.
-
10. Castells M. Op. cit. P. 9.
-
11. Ibid.
-
12. Хабермас Ю. Зверство и гуманность. Война на границе права и морали // Логос. 1999. № 5 (15). С. 12–17.
-
13. Маркузе Г. Указ. соч. C. IX–XXI.
-
14. Кондратенко К.С., Шабанов Л.В. Экзистенциальное поле социоанализа в интегративной психологии как конфликтологическая этика // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2015. № 04 (75).
-
15. Абъекция – процесс отпадения, в результате которого возникает «абъект» – «отпавший объект». Не являясь ни объектом, ни субъектом, абъект представляет собой первую попытку будущего субъекта осознать факт своего отделения от доэдиповской матери со всем комплексом шоковых ощущений, связанных с данным событием; при этом состояние абъекции распространяется не только на ребенка, но и на мать. См.: Постмодернизм. Словарь терминов [Электронный ресурс]. URL: http://onlineslovari.com/postmodernizm_slovar_terminov/page/abyektsiya.1/ (дата обращения: 14.09.2015).
-
16. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество // Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М., 1999. С. 128–143.
-
17. Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkley, 1985 ; Lipshutz R.D. Seeking a State of One's Own: an Analytical Framework for Assessing Ethnic and Sectarian Conflicts // The Myth of Ethnic Conflict / ed. by B. Crawford and R. Lipschutz. Beverly, 1998.
-
18. Сафонов А.Л., Орлов А.Д. Глобализация как дивергенция: кризис нации и «ренессанс» этноса // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 6. С. 17–23.
Список литературы Синкретизм этнического и религиозного в конфликте ценностей
- Сугрей Л.А. Традиционализм как социальная философия этноса: монография. Пятигорск, 1999. 340 с.
- Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В. Портфель идентичностей молодежи Юга России в условиях цивилизационного выбора//Социологические исследования. 2010. № 12. С. 18-27.
- Паин Э.А. Вызовы культурного разнообразия, традиционализм и модернизация России//Вызовы XXI века: природа, общества, пространства. М., 2012. С. 37-52.
- Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 880 с.
- Турен А. Идея революции//Социологическое обозрение. 2014. Т. 13, № 1. С. 98-116.
- Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994. 368 с.
- Castells M. The Power of Identity//The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2. Malden; Oxford; Carlton, 2004.
- Санина А.Г. Информационное общество и государственная идентичность//Информационное общество. 2013. Вып. 6. С. 9-15.
- Хабермас Ю. Зверство и гуманность. Война на границе права и морали//Логос. 1999. № 5 (15). С. 12-17.
- Кондратенко К.С., Шабанов Л.В. Экзистенциальное поле социоанализа в интегративной психологии как конфликтологическая этика//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2015. № 04 (75).
- Абъекция -процесс отпадения, в результате которого возникает «абъект» -«отпавший объект». Не являясь ни объектом, ни субъектом, абъект представляет собой первую попытку будущего субъекта осознать факт своего отделения от доэдиповской матери со всем комплексом шоковых ощущений, связанных с данным событием; при этом состояние абъекции распространяется не только на ребенка, но и на мать. См.: Постмодернизм. Словарь терминов . URL: http://onlineslovari.eom/postmodernizm_slovar_terminov/page/abyektsiya.1/(дата обращения: 14.09.2015).
- Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество//Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М., 1999. С. 128-143.
- Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkley, 1985
- Lipshutz R.D. Seeking a State of One's Own: an Analytical Framework for Assessing Ethnic and Sectarian Conflicts//The Myth of Ethnic Conflict/ed. by B. Crawford and R. Lipschutz. Beverly, 1998.
- Сафонов А.Л., Орлов А.Д. Глобализация как дивергенция: кризис нации и «ренессанс» этноса//Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 6. С. 17-23.