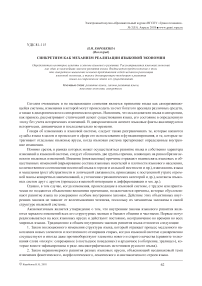Синкретизм как механизм реализации языковой экономии
Автор: Коробкина Наталья Игоревна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (55), 2018 года.
Бесплатный доступ
Определяются некоторые аспекты и законы языкового развития. Рассматривается языковая экономия как один из важнейших законов развития языка. Выдвигается предположение о том, что синкретизм мышления человека представляет собой механизм реализации языковой экономии, а также доминирующую тенденцию в развитии языка на современном этапе его существования.
Развитие языка, законы развития языка, языковая экономия, синкретизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14822679
IDR: 14822679 | УДК: 81-115
Текст научной статьи Синкретизм как механизм реализации языковой экономии
Сегодня очевидным и не вызывающим сомнения является признание языка как саморазвиваю-щейся системы, изменения в которой могут происходить за счет богатого арсенала различных средств, а также в диахроническом и синхроническом срезах. Напомним, что исследователи языка в синхронии, как правило, рассматривают статический аспект существования языка, его состояние в определенную эпоху без учета исторических изменений. В диахроническом аспекте языковые факты анализируются исторически, динамически и последовательно во времени.
Говоря об изменениях в языковой системе, следует также разграничивать те, которые касаются судьбы языка в целом и происходят в сфере его использования и функционирования, и те, которые затрагивают отдельные языковые ярусы, когда языковая система претерпевает определенные внутренние изменения.
Помимо срезов, в рамках которых может осуществляться развитие языка и собственно характера изменений в языковой системе, следует обозначить две группы причин, влияющих на разнообразие аспектов языковых изменений. Внешние (внеязыковые) причины отражают взаимосвязь языковых и общественных изменений (варьирование состава языковых носителей и плотности языкового населения, количественное соотношение носителей языка в городе и сельской местности и пр.), взаимосвязь языка и мышления (рост абстрактности и логической связанности, приводящие к постепенной утрате огромной массы конкретных наименований, к уточнению грамматических категорий и др.), контакты языковых систем друг с другом (процессы языковой интеграции и дифференциации и мн. др.).
Однако, в том случае, когда изменения, происходящие в языковой системе, с трудом или практически не поддаются объяснению внешними причинами, подключаются причины, которые обусловливают развитие языка по совершенно особым внутренним законам. Действие этих объективных внутренних законов не зависит от волеизъявления человека, поскольку их механизмы заложены в самой структуре языковой системы.
Аксиоматичным является утверждение о том, что внутренние законы языкового развития являются зеркалом изменений всех его структурных звеньев и бывают общими и частными. Первые могут реализовываться на всех языковых ярусах и действуют постоянно, неограниченно во времени во всех мировых языках. Традиционно к общим внутренним законам развития языка относятся следующие:
-
1. Закон эволюционного изменения структуры языка, который отражает процесс медленного накопления новых элементов и постепенного отмирания старых, когда в языковой системе одновременно сосуществуют и иногда даже противоборствуют элементы нового и старого качества (сравните толкования слова « позор» : современное («постыдное поведение») и архаичное («обозрение, зрелище»), которые вместе зафиксированы в ряде лексикографических источников русского языка).
-
2. Закон неравномерного развития разных языковых ярусов, объясняющий неодинаковый темп изменения фонетического, морфологического, лексического и синтаксического строев языка.
-
3. Закон изменения по аналогии, применяемый при обобщении исконно отличных друг от друга языковых явлений и разграничении первоначально одинаковых (сходных) явлений языка. Действие этого закона обусловлено системностью языка и наличием у его единиц двух планов – содержания и выражения.
-
4. Закон компенсационного развития, согласно которому отмечается восполнение утративших свое прежнее значение языковых элементов, отношений или форм новыми (например, сложная система времен древнерусского языка была компенсирована формированием видовой системы глаголов русского языка современного периода).
-
5. Закон языковой экономии, необходимый для устранения языковой избыточности и регулирования у элементов языковой системы соответствия значения и формы их выражения.
Частные (внутренние) законы развития языка касаются отдельных языковых ярусов. Они действуют хоть и длительно, но, по сравнению с общими законами, ограниченный временной период (например, закон открытых слогов: историческое устранение закрытых слогов из общеславянского языка; закон передвижения согласных в германских языках и др.).
В рамках данной статьи особый интерес представляет закон экономии языковых средств, поскольку развитие языка по такому пути является одной из важнейших тенденций и одним из определяющих факторов развития языковой системы на современном этапе ее существования.
Рассмотрим суть данного закона развития языка подробнее. В самом общем понимании экономия языковых средств заключается в том, что по принципу наименьшего усилия и стремления к минимальным затратам, необходимым для достижения максимального результата, осуществляется выбор наиболее рациональных и кратких для целей коммуникации единиц. В результате этого наблюдается увеличение информативности письменного или устного сообщения за счет его минимализации.
Приведем пример. В последнее время в различных сферах общения встречается номинация «глэмпинг» (глэм (от англ. glamour - гламур) + кемпинг) (отдых на природе в очень комфортных условиях и с соответствующей изысканной кухней). Как показывают данные одного из телевизионных источников, в приводимом ниже контекстуальном употреблении данной номинации отсутствует ее аналитическое по форме значение, а упоминается само слово в качестве прототипной экономичной лексемы:
Яна (су-шеф) : «Сегодня у нас будет не просто пикничок, а обед в стиле глэмпинга. Состоит из двух слов, да, гламур и кемпинг. Это отдых на природе в очень комфортных условиях».
Из приведенного примера следует, что язык в ходе развития пытается ввести максимум информации и приобрести максимум гибкости, но при этом заботится о минимизации количества затраченных на это средств. Нередко под средствами имеется в виду время, затрачиваемое на произнесение или/и написание определенного высказывания, которое человек посредством экономии языковых средств пытается сократить.
На наш взгляд, происходит своего рода, бессознательное стремление всех коммуникантов выражать свои мысли, эмоции и чувства максимально лаконично, что и приводит в действие закон языковой экономии. Соответственно, языковая система самопроизвольно отбрасывает все длинное. Так, главная часть компьютера называется системным блоком, но в обиход, как мы знаем, вошел краткий вариант данной лексической единицы – системник, который с точки зрения семиотики сжимается в своем плане выражения, но сохраняет при этом свой план содержания. Этот и многие другие примеры сжатия плана выражения новейших номинаций (оливьеженое (оливье + мороженое) вместо салат «Оливье» в вафельном рожке; платочный бунт/скандал вместо религиозный скандал о праве мусульманок носить платки в школах, который случился в начале 2017 г. в татарском селе Бело-зерье в Мордовии; синий кит вместо «группа смерти» в Инстаграме, ВКонтакте и др. социаль- ных сетях, которые через картинки затягивают в захватывающую игру, итогом которой является доведение до самоубийства и т. п.) (здесь и далее примеры и семантика номинаций приводятся по: [5]) свидетельствуют о том, что рубеж XX–XXI вв. можно охарактеризовать значительными изменениями всемирного масштаба в различных сферах общественной жизни (научно-технической, экономической, политической и др.). Ритм современного существования и темп сегодняшнего общения наглядно демонстрируют постоянное, непрекращающееся стремление к увеличению скорости протекания всех жизненных процессов и свободе от некоторых нормативных правил, что не могло не найти свое отражение на изменениях состояния языковой системы.
Нельзя не согласиться с М.Н. Эпштейном в том, что одним из сигналов такого динамичного развития языка под влиянием экстралингвистических факторов следует считать его насыщенность пришедшими в Советскую Россию 1920-х гг. из Америки аббревиатурами. Как отмечается в одном из его интервью, тенденция к языковым и речевым сокращениям нередко выступает коммуникативной помехой ввиду определенной сложности в декодировании аббревиатур. С другой стороны, это нисколько не нивелирует их коммуникативной эффективности, т. к. аббревиатуры – это явные маркёры и тоталитарности языка, и отражения технической рационализации, и, самое главное, сжатия во имя экономии времени [4]. Интересно, что аналогичные процессы сжатия (экономии) происходят не только на лексическом ярусе языковой системы, но и, например, на фонетическом уровне, когда наблюдается минимизация затрачиваемых на произнесение некоторых слов акустических усилий говорящего: спокино-ки вместо спокойной ночи; ваще вместо вообще; чё/што вместо что и пр.
Вышесказанное подтверждает наше предположение о том, что объективный общий закон экономии языковых средств зависит как от интра-, так и от экстралингвистических факторов. Ведущим обстоятельством, провоцирующим развитие языковой системы по пути сжатия, выступают собственно изменения в самой общественной жизни, происходящие под влиянием такого важнейшего индикатора, как научно-технический прогресс.
Постоянно растущее количество новых знаний, динамичность и интенсивность развития многих сфер жизнедеятельности и другие двигатели научно-технического прогресса неизбежно приводят к тому, что человеку за ту же самую единицу времени необходимо обработать больший объем получаемой извне информации. При этом данный процесс осуществляется неотделимо от того коммуникативного знания, которым владеет та или иная языковая личность.
Разделяя точку зрения О.И. Матьяш, обоснуем это витальной пользой коммуникативного знания; его практичностью; технологичностью; его способностью обогащать нас новыми способами поведения, приемами и тактиками, релевантными для решения многих жизненных задач и ситуаций. Коммуникативное знание придает нам духовную силу, уверенность в себе, добавляет мудрость в отношении к жизни. Глобальная распространенность коммуникативного знания (homo loquens) приводит к тому, что мир становится все более разнообразным, но при этом все более сжимается (выделено нами. – Н.К. ) – мы все более зависим друг от друга и экономически, и демографически, и экологически [3, с. 15–17].
С учетом вышеизложенного представляется возможным, что сжимается не сам мир, как окружающая реальность, а языковые/речевые формы, отражающие этот мир. С позиций современной коммуникативной парадигмы языкознания такая тенденция сводится к общеметодологическому принципу: экономия языковых/речевых средств, усиление семантики появляющихся новых номинаций должны стать импульсами и основными движущими факторами для более экономичного и более прагматичного, т. е. более экспрессивного общения.
Обоснуем данную мысль следующими примерами: Ромьян (Роман + Яна) – мужское имя собственное; предобренная (сумма кредита) – предварительно одобренная сумма кредита и т. п. План содержания этих номинаций в сочетании со сжатием их плана выражения, вероятно, свидетельствует о более экспрессивном характере ситуаций их рождения и функционирования. Это, в свою очередь, приводит к коннотативной окраске и эмотивной семантике самих слов, и экспрессивному эффек- ту, который они потенциально могут оказывать на говорящего/слушающего, что позволяет считать такие новообразования эмотивной лексикой в статусе коннотатива. При этом для успешной коммуникации такими сжатыми речевыми единицами должна быть разработана особая понятная всем семиотика, что является особенно актуальным в контексте современного окказионального словообразования, являющегося в ряде случаев вербальным отражением закона экономии языковых средств.
Вышеизложенные размышления позволяют считать целесообразной идею о том, что тенденция к синкретизму выступает одним из механизмов реализации экономии языковых средств, как внутреннего закона развития языка, что обусловлено, с одной стороны, общеизвестным логическим приемом синтеза, активно используемого в лингвистических исследованиях. С другой стороны, актуальным выглядит предположение о том, что данная тенденция заключается в способности человека синкретично мыслить.
Заметим, что термин «синкретизм» обладает междисциплинарным характером и широко используется в различных научных сферах и областях (искусство, философия, религия, психология, культурология и др.). При этом можно выделить некоторые универсальные характеристики данного феномена, которые одновременно могут использоваться в качестве синонимических эквивалентов данному термину: нерасчлененность, сочетание разнородных объектов, смешение, неорганическое слияние.
Общеизвестно, что все в окружающем нас мире амбивалентно и гармонично сосуществует в оппозиционных отношениях. Синкретизм языка и мышления не является исключением, поэтому не может быть рассмотрен изолированно от противоположной тенденции к аналитизму. Такой симбиоз связан, по нашему мнению, с изменениями в человеческом мышлении, которые происходили по пути от синкретичного к аналитическому.
Как свидетельствуют исторические данные, речь и мышление древних людей были примитивны, несовершенны, нерасчлененны. Иными словами, древние люди первоначально мыслили и говорили синкретично. Постепенно эволюционное развитие человека привело к качественным изменениям и в его мышлении, которое становилось более совершенным и приобретало черты абстрактности. При целостном восприятии объектов окружающей действительности человек стремился дробить их на части, что положило начало использованию логического приема анализа в процессе познания и, как следствие, проявлению языковой тенденции к аналитизму, к появлению лингвистического метода компонентного анализа слова, к многочисленным исследованиям языковых единиц путем расщепления их на минимальные составляющие.
Лингвистическое проявление аналитизма в форме внутрисловного компонентного анализа уходит своими корнями, по словам А.М. Кузнецова, в исследования по ядерной физике, о чем говорят, например, номинативно-метафорические параллели в названиях минимальных составляющих (элементарные частицы) или часто употребляемые в компонентном анализе выражения («атомарные смыслы», «кванты значения», «элементарные смысловые элементы») и т. д. С другой стороны, если учесть, что объяснение лексических значений в обычных толковых словарях традиционно строится по «компонентному» принципу, то можно не менее обоснованно утверждать вполне автономное зарождение и развитие компонентного анализа в рамках самой лингвистики [2, с. 77].
Несмотря на существенную эволюцию человеческого мышления и закономерное становление его аналитизма, черты синкретизма мышления древнего человека в наше время полностью не исчезли. Обращение к конкретному речевому материалу показывает, что в современном человеческом мышлении и языке наблюдается возрождение тенденции к синкретизму и даже ее некоторое доминирование над тенденцией к аналитизму. Однако в содержательном отношении современный синкретизм кардинально отличается от синкретизма мышления древних людей. Он представляет собой новую ступень своего развития, когда в процессе создания речевых номинаций имеет место опора на уже существующий в языке строительный материал в виде узуальных лексических единиц.
В коммуникативном пространстве современного русского языка это подтверждается, например, появлением таких номинаций, как хламогеддон (хлам + Армагеддон) – глобальный беспорядок в квартире, который равнозначен концу света; бургероженое (бургер + мороженое) – бургер с джелато (итальянским мороженым), который можно приобрести в одном из кафе на пешеходной набережной в районе Нерви (Генуя, Италия); Кузьдмитрий (Кузьма + Дмитрий) – мужское имя собственное и др. Подобные лексические новинки и их семантика «реанимируют» некогда утраченный синкретизм мышления, демонстрируя его в современной интерпретации как ментальную способность человека к максимально сжатому и емкому выражению мыслей в речи. Кроме этого обращает на себя внимание компрессивный план выражения данных номинаций, достигаемый за счет сложных ментальных операций, осуществляемых человеком. Что касается плана содержания, то он не теряет своей емкости в сравнении с аналитическими прототипами (семантическими дефинициями).
Существенным добавлением к вышесказанному является, на наш взгляд, то, что имеет место соблюдение одного из методологических принципов компонентной/семной семасиологии, заключающегося в разложении конкретного языкового/речевого материала на отдельные смысловые компоненты вначале, а затем их последующем слиянии в единую речевую форму. Например, уже обозначенная ранее номинация «хламогеддон» членится на такие лексические единицы, как хлам и Армагеддон. Далее в результате семантизации указанных лексических единиц образуется новая единая речевая форма со значением «глобальный беспорядок в квартире, который равнозначен концу света». Такое сосуществование аналитизма и синкретизма объясняется общеметодологическим гносеологическим утверждением о неразрывном единстве в рамках процесса познания двух важнейших логических приемов – анализа и синтеза. Взаимосвязь последних четко подметил, по нашему мнению, А.М. Кузнецов, говоря о том, что в процессе анализа изучаемый предмет мысленно или практически расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения) для того, чтобы соединить их с помощью синтеза в единое целое, обогащенное новыми знаниями [2, с. 5].
Исходя из этого становится возможным в рамках лингвистической науки несколько расширить общеизвестный тезис о неразрывном существовании анализа и синтеза и переформулировать его следующим образом: без анализа нет синтеза, тенденция к синкретизму становится опережающей, что объясняет появление другой (новой) языковой личности, способной выражать свои мысли, эмоции и чувства более лаконично и экспрессивно, т. е. более экономично с точки зрения артикуляционных усилий и вмещения большего объема семантики в более краткую внешнюю форму. Такая личность имеет несколько иное языковое представление того же самого объективного мира, т. е. имеет несколько иную его языковую картину.
Если вспомнить одну из традиционных моделей структуры языковой личности по Ю.Н. Караулову, согласно которой выделяются вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный компоненты [1], то владение механизмами аналитического и синкретичного мышления наряду с индивидуальной картиной мира, индивидуальными концептами и другими составляющими интеллектуальной сферы языковой личности, безусловно, должно пополнить ее лингвокогнитивный компонент. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что при создании новых номинаций закон экономии языковых средств и синкретизм, как механизм его реализации, участвуют в создании нового типа личности с особой психологией, особым способом мышления и особым коммуникативным поведением – кратким и лаконичным.
Подведем некоторые итоги. Экономия языковых средств является одним из важнейших внутренних законов, обусловливающих происходящие в языковой системе изменения. Установлено, что суть данного закона в следующем: под влиянием ряда экстралингвистических факторов (интенсивное развитие многих сфер жизнедеятельности современного общества, сопутствующий этому научно-технический прогресс) происходит отбор наиболее рациональных и кратких для целей коммуникации языко-вых/речевых единиц. Таким образом, неотделимо от того коммуникативного знания, которым владеет человек, наблюдается увеличение информативности высказывания за счет минимизации усилий, времени и количества используемых в языке/речи и тексте единиц.
Определено, что синкретизм мышления человека представляет собой один из механизмов реализации языковой экономии. Кроме этого представляется целесообразным на современном этапе развития языка рассматривать данный феномен как доминирующую тенденцию, когда человек в процессе создания новых номинаций стремится максимально сэкономить затрачиваемые на это усилия. Интересно, что такая тенденция объясняет также появление другой (новой) языковой личности, которая способна выражать свои мысли, эмоции и чувства более лаконично и экспрессивно, т. е. более экономично.
Список литературы Синкретизм как механизм реализации языковой экономии
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
- Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу/отв. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Науч. совет «Теория сов. языкознания»; Ин-т языкознания. М.: Наука, 1986.
- Матьяш О.И., Погольша В.М., Казаринова Н.В. Межличностная коммуникация: теория и жизнь: учебник для вузов/под науч. ред. О.И. Матьяш. СПб.: Речь, 2011.
- Эпштейн М.Н. Язык лукавого раба. Авторитарный язык //Русский журнал. URL: http://www. russ.ru/Mirovaya-povestka/YAzyk-lukavogo-raba (дата обращения: 15.12.2017).
- Словарь окказионализмов современного русского языка. . URL: http://noncewords.ru/(дата обращения: 09.01.2018).