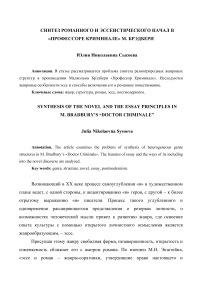Синтез романного и эссеистического начал в "Профессоре криминале" М. Брэдбери
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема синтеза разноприродных жанровых структур в произведении Малкольма Брэдбери «Профессор Криминале». Исследуются жанровые особенности эссе и способы включения его в романное повествование.
Жанр, структура, роман, эссе, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149139160
IDR: 149139160 | УДК: 821.111.0(410)
Текст научной статьи Синтез романного и эссеистического начал в "Профессоре криминале" М. Брэдбери
Возникающий в ХХ веке процесс самоуглубления «я» в художественном плане ведет, с одной стороны, к акцентированию «я» героя, с другой – к более отрытому выражению «я» писателя. Процесс такого углубленного и одновременно расширяющегося представления о резервах личности, о возможностях человеческой мысли привел к развитию жанра, где освоение опыта культуры с помощью открытого личностного осмысления является жанрообразующим, – эссе.
Присущая этому жанру свободная форма, незавершенность, открытость и изменяемость сближает его с жанром романа. По мнению М.Н. Эпштейна, «эссе и роман – жанры-соратники, утвердившие право настоящего и преходящего вторгаться в мир установленных ценностей и показывать их соотносительность с индивидуальностью автора и героя» [9, c. 340]. По мнению исследователя, эссеизация романной формы – одна из значимых тенденций в литературе ХХ столетия. Она представляет собой неотъемлемое и доминирующее направление развития жанра романа в этот период: «В своей приверженности настоящему эссе опережает роман и указывает ему творческую перспективу, поскольку не вымышляет особую действительность, не специфизирует образ как художественный, а выводит его на простор той действительности, в которой живут автор и его читатели» [9, c. 364]. Взаимопроникновение этих двух начал – романного и эссеистического – обусловлено самой природой этих жанров, их склонностью к синтетичности и к свободе в выборе стилистических средств. Современный роман, как и эссе, тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные здесь легко соединяются с публицистическими и философскими. Они открыты включению, вплетению в их канву дневника, документа, статьи, новеллы, комментария, телесценария и других элементов.
Эссе может быть философским, беллетристическим, критическим, историческим, автобиографическим… – но суть в том, что оно, как правило, бывает всем сразу. Указанные свойства могут по-разному соотноситься в нем, что-то преобладать, что-то отступать в сторону, но в принципе все существующие области сознания способны превращаться в составляющие эссеистического произведения. И полностью прав С. Зенкин в своем утверждении, что «будучи по определению вольной формой, эссе трудно поддается обобщенному описанию как жанр, и обыкновенно его образцы изучаются лишь с точки зрения их конкретного содержания, в рамках анализа общественных и художественных воззрений того или иного писателя» [4, c. 797].
Эссе именно «положено» внутри становящейся реальности, куда оно стягивает все возможные формы ее осознания и освоения. Художественное, философское, нравственное, историческое – эссеистика как бы выворачивает наизнанку содержание всех этих сфер общественного сознания, выводит их из самодовлеющей замкнутости в тот мир человеческого опыта, который их производит.
В своих выступлениях разных лет, а также в поздней романной прозе Малкольм Брэдбери обращается к проблеме современной культуры, столь разнородной по своему составу. Он говорит об эпохе fin de siécle, когда «культура превратилась в шоу, дизайн, непреходящий шоппинг» [1, c. 207]. И при подведении итогов столетия было объявлено множество «концов» – конец истории, конец философии, в литературе – смерть автора и смерть читателя. Для многих это было прорывом к истинной свободе, как определяет эту ситуацию А. Зверев, когда «можно всласть натешиться деконструкцией и крушить любые авторитеты, или временным помрачением умов» [3, c. 160]. Брэдбери увидел во всем этом только катастрофу. Что-то зловещее для культуры таили в себе эти самозабвенные занятия «хаосом знака» и «пародийной интеллектуальностью», которая с насмешкой отвергает любую попытку мыслить как homo historicus.
Главный тезис Брэдбери таков: конец каждого столетия несет с собой ломку и разрушение. «Ниспровергается устоявшийся порядок со всеми его структурами, потрясаются до самого основания идеологические построения, перекраиваются границы между странами, взрываются рамки духовного пространства, идентичность личности ставится под сомнение, формулировки теряют силу, мужчина и женщина меняются ролями – кто мы? кого ненавидим? кого любим? Возникает новый миропорядок, чтобы затем точно также низвергнуться в хаос» [цит. по: 2, с. 237].
В этом плане в романе весьма показательны размышления о роли Эйфелевой башни в истории европейской культуры. Возведенная Эйфелем в 1889 году в честь столетия Французской революции, башня оказалась памятником самой себе, так как найти практическое применение для нее удалось не сразу. Башню предполагалось снести к 1910 году – «бесполезное сооружение, бессмысленный рывок вверх, в ничто, в будущее, на то и годиться лишь, чтобы стоять у ее подножия и глазеть на верхушку – и наоборот» [цит. по: 2, с. 237]. И вдруг выяснилось: башня идеальная радиовышка, построенная еще до того, как изобрели радио. Иными словами, это была «первая великая метафора абстрактного модернизма, голая абстракция, туловище без внутренностей, скелет без плоти» [2, с. 237]. Только через несколько лет «башня, символизировавшая ничто, стала символизировать все, превратилась в эмблему нового, устремленного в будущее Парижа» [1, c. 123]. В этом конкретном случае возможно, как представляется, считать этот образ Эйфелевой башни «эссемой» (термин М.Н. Эпштейна), которая, являясь единицей эссеистического мышления, представляет собой свободное сочетание конкретного образа и обобщающей его идеи. При этом факт остается фактом, идея – идеей, они скреплены не обязательным, не единственным образом, но через личность того, кто соединяет их в опыте самосознания, то есть не только через автора, но и читателя, которому предоставляется полная свобода в осмыслении изображенных явлений. Данная эссема (как и многие другие в романе) являет собой порождение индивидуального сознания, которое сознает себя таковым и не выдает понятие за образ, образ за действительность, не утверждает их тождества в качестве аксиомы, но допускает в качестве гипотезы.
В качестве гипотез Брэдбери приводит множество исторических фактов, которые в силу своей малоизвестности широкой публике оказываются парадоксальными. Так, например, аспирант Кодичила Герстенбаккер упоминает в разговоре с Джеем, что Людвиг Витгенштейн и Адольф Гитлер учились в одной школе: «И если бы Гитлер в школе получше успевал, сейчас он мог бы быть профессором в вашем Кембриджском университете… Оригинальная мысль. Значит, если бы Витгенштейн успевал похуже, ему пришлось бы развивать свои концепции о мире человека и мире языка на нюрнбергской скамье подсудимых?.. Теоретически это вполне вероятно, однако фактологически не слишком правдоподобно. А вот в Кембридж он наверняка не попал бы, и венский философский кружок никогда бы не собрался» [1, c. 99].
Подобный индивидуальный авторский взгляд Брэдбери в разработке темы «случайных» совпадений в истории находит выражение в поиске определенных закономерностей в истории развития Европы за последние сто лет. Через своего повествователя Джея писатель открывает поразительную периодичность, с которой свершались наиболее значимые для Европы события – 25 лет: «Если вдуматься, 1889-й – это был тот еще год, причем для всей Европы. Год Фрейда и Ницше, Ибсена и Золя, Макса Нордау и Макса Вебера… Через четверть века после 1889 года в Сараеве застрелили пресловутого эрцгерцога. Империя Габсбургов пала, карта Европы поползла по швам, а Голубой Дунай, если верить глубокомысленным объяснениям Герстенбаккера, невиданно заголубел. Еще через двадцать пять лет пагуба прорвалась на новый этап. В Лондоне скончался Фрейд, в Париже вышел итоговый текст модернизма – «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, над Польшей занес философский молоток Гитлер, началась вторая мировая война. Кровь и будущее стервенели, хлестали фонтаном, Голубой Дунай голубел почем зря. Еще через двадцать пять лет год выдался потише, но не без памятных вех. Пик холодной войны, эхо выстрела в Кеннеди, карьерный триумф Брежнева, Гарольда Вильсона и Линдона Б. Джонсона, мой первый младенческий крик» [1, c. 127-128].
В эссеистической литературе «я» писателя не столь замкнуто в себе, а сопряжено, главным образом, посредством мысли, размышления с различными сторонами бытия. Это сопряжение так существенно, что, попав под действие мысли, «я» может изменить свое качество, стать «не-я», обрести масштаб общечеловечности, но, по законам жанра, оно должно непременно вернуться к себе, в «зону души» [7, c. 8], в новом качестве, обогащенном контактом с различными сторонами бытия. Преодоление имманентности «я» за счет контактов с различными сторонами бытия и в то же время не растворение «я» в окружающей действительности, а осмысление всех процессов открыто, непосредственно в «зоне души» писателя – все эти существенные признаки жанра придают эссе особые качества: динамизм и постоянную вариативность.
С точки зрения Эпштейна, сущность специфики эссе – именно в динамичном чередовании и парадоксальном совмещении разных способов миропостижения [9, c. 345]. Эссе держится как целое именно энергией взаимных переходов, мгновенных переключений из образного ряда в понятийный, из отвлеченного – в бытовой.
В созданном образе профессора Басло Криминале для Брэдбери главное – органическая связь всех его способностей, та «культурная многосторонность, которая позволяет ему центрировать в своем личном опыте все разнообразные сферы знания, выводить их из профессионально завершенных и замкнутых миров в непосредственно переживаемую и наблюдаемую реальность» [9, c. 345].
Влияние жанра эссе на конкретную романную структуру выражается в том, что в данном произведении создается не только вымышленный, созданный авторской фантазией ряд образов, не только условно-художественный мир со своим сюжетом и системой персонажей, а сложная картина реальных отношений «я» писателя и различных проявлений действительности, данных непосредственно, связанных авторским рассуждением. Художественная образность переливается во внехудожественную реальность, в концентрацию фактов, рефлексией преображающихся в абстрактно-логическую форму – в мысль, в понятие, сверххудожественное обобщение.
В произведении М. Брэдбери эссеистическое начало создает такую романную модификацию, когда автор, избирая как одну из сфер действительности судьбу и внутренний мир другого человека, воображаемого, созданного в литературе, ставит акцент не на судьбе вымышленного героя, переданной в романной структуре произведения, а на проблеме самоутверждения личности писателя в широком поле общечеловеческой культуры, на самоосознании себя в движении истории. И делает это Брэдбери через двух своих героев: «великого» философа Басло Криминале и журналиста Фрэнсиса Джея, наделенного некоторыми автобиографическими чертами.
Как отмечает А. Якимович, в Англии развита традиция «биографии замечательных людей» [10, c. 245]. Там умеют описывать жизнь выдающегося индивида со вкусом, с проницательностью, с иронией – и недаром только там пишутся некрологи, которые следует считать произведениями литературы. Традиции британской биографии и британского некролога вышли из незыблемой крепости британского позитивизма, с его строгим требованием «уважать факты и воздерживаться от теорий» [10, c. 245]. И в романе Брэдбери именно тяга молодого журналиста к точности фактов при исследовании жизненного пути Криминале, его стремление изложить их как можно более достоверно способствует динамике не только внешнего, но и внутреннего сюжета произведения. За счет этого создается особое напряжение в интеллектуальном поле романа, которое несет в себе личность Фрэнсиса Джея.
Как уже отмечалось, этот герой довольно автобиографичен. Эта особенность творчества Брэдбери наделять своих персонажей личностными чертами, присущими ему самому, а также помещать их в те условия жизни, в которых приходилось оказываться Брэдбери как писателю и преподавателю университета, прослеживается на протяжении всего его творчества (в романах, эссе, телевизионных сценариях). Исследователи современного романа отмечают, что автобиографизм, разнообразно себя реализующий (от простых воспоминаний до фактографичности и документальности) – одно из продуктивных направлений развития современной романной формы: «Сам по себе факт проникновения в роман автобиографического материала явление отнюдь не новое… Но, думается, особенное изобилие и многообразие «гибридных» форм, где документ, автобиография, дневник облекаются в форму романа, а роман прикрывается документальностью, в литературе последних десятилетий связано, с одной стороны, с новой постановкой проблемы «достоверности» романа… и, с другой, с потребностью писателя проникнуть через свой личный опыт во внутренний мир своего современника – человека, прошедшего через тот же опыт исторический» [5, c. 7].
Необходимые биографические данные рассказчика вводятся в повествование не совсем в традиционной последовательности – вслед за знакомством с читателем в начале повествования. Они продолжают возникать спорадически и обрывочно на протяжении почти всего романного действия, проявляясь и в прямых обращениях к читателю. Так, например: «Раз уж вы добрались до этого места, вам, верно, хочется (или не хочется, кто вас разберет)
побольше узнать о моей жизни, литературных пристрастиях, о мировоззрении в конце концов. Я мог бы заморочить вам голову нескладным автобиографическим очерком (семья, школа, успехи в спорте, ранние несмелые соития), но составлять его что-то лень» [1, c. 19-20]. И далее – наиболее важные, по мнению рассказчика, сведения о годах учебы в Сассекском университете, которые оказали решающее влияние на мировоззрение молодого человека. Или же это намек на какие-то факты из его жизни: «Вечер (а возможно, не один, кто знает?), проведенный мною с Козимой в Брюсселе, наконец подвел черту» [1, c. 432]. Но, без сомнения, читательский интерес направлен прежде всего на внутренний рост личности журналиста, на эволюцию его взглядов и отношений.
Одной из главных особенностей эссеизма в литературе ХХ века можно считать развернутое и активное самоисследование автора-творца, основных способов реализации которого в произведении только два – личностное начало писателя открыто являет себя на страницах романа или носителем авторского сознания становится герой книги. Причем во втором случае писатель либо полностью и на протяжении всего повествования сливается с ним, либо остается относительно самостоятельным, временами абстрагируясь от него. В романе Брэдбери таким носителем авторского сознания выступает, несомненно, Фрэнсис Джей. Но встает вопрос о том, насколько полно отражается в этом образе личностный опыт и мировоззрение самого писателя, насколько мы можем доверять ему как основному рассказчику. Решение этой проблемы заключается в самой сущности эссеистического творчества: по мнению М. Эпштейна, основу эссеистики составляет особая концепция человека – как носителя не знаний, а мнений. Мысли, высказываемые в эссеистической форме, как правило, не претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они допускают возможность совсем иных толкований. С этой точки зрения, Джей становится носителем мнений, которые имеют право на существование, но необходимым условием этого становится способность героя их доказать и отстоять. Причем, конечно же, мнение героя исключительно субъективно и не претендует на какую-либо идеологичность и всеобщность.
В «Профессоре Криминале» автор через своего героя выражает свое сложное и неоднозначное отношение к истории. В структуре романа важную роль играет философское начало, а проблема «человек – история» становится одной из главнейших, и представляется целесообразным в ее решении главным образом акцентировать два аспекта: лексико-семантический и аспект композиции системы персонажей.
Постановка и решение этой проблемы в лексико-семантическом аспекте связаны с языковой игрой словами story (повествование, рассказ) и history (действительность в ее развитии, движении), переводимой Брэдбери на уровень философского смысла. Первоначально Басло Криминале появляется в романе как герой книги, как story: «Криминале – текст, я – дешифровщик», – заявляет исследователь этой личности Фрэнсис Джей. – «Вот он весь передо мной, в виде текста» [1, c. 37]. Однако осмысление конкретных и одновременно глубоко значимых противоречий жизни Криминале и его исторического бытия порождает иронию, благодаря которой происходит снижение этого образа.
Криминале становится для Джея уже не текстом, который тот должен был расшифровать, а реальным человеком, которого ему предстояло «выслеживать». В ходе расследования Джей открывает множество тайн, осмысливает личность великого философа и приходит к выводу, что судьба Басло Криминале является воплощением истории Европы второй половины ХХ века. Криминале столкнулся с тем, что нам теперь и вообразить-то трудно. Кризисы на его глазах сменялись войнами, войны – кризисами. Он «последовательно перемог оттепель, заморозки, террор, проблеск надежды и реванш террора» [1, c. 129]. Он ухитрялся пребывать с обеих сторон железного занавеса одновременно, отпирать черный ход собственным ключом, прокладывать научные пути вперед и вспять, вбок и вверх, мостить гати через саднящее, изломанное время. По мнению Брэдбери, если кто-то «продрался сквозь бредовую, жестокую сутолоку ХХ века, сквозь ужасы и муки ГУЛАГов», то он «наверняка замаран» [1, c. 64]. И всякий, кто выжил и возвысился «в горестном пекле второй половины века, сходился врукопашную с логикой истории, террором, двоемыслием и бессмыслицей – и одолел» [1, c. 63].
С точки зрения С.Н. Филюшкиной, в ХХ веке опыт общественных катаклизмов, двух мировых войн и особенно фашизма, с одной стороны, определил категоричность нравственных требований к индивиду, а с другой – заставил последнего подвергнуть пересмотру привычные представления о нравственности, усомниться в безусловности самих моральных категорий: «хорошо» – «плохо», «справедливо» – «несправедливо», «правильно» – «неправильно» [8, c. 21]. Исследовательница отмечает, что «избирая в качестве нравственного ориентира не некий независимо существующий моральный абсолют, а индивидуальное выражение человечности, каждый раз предельно конкретное, современный писатель уступает классику в определенности и проповедническом пафосе оценок, а порой не избегает и двусмысленности, но зато с большей гибкостью и полнотой отражает углубившиеся противоречия жизни, а также усилившуюся относительность суждений человека о себе и о жизни» [8, c. 28].
Взгляд назад, в прошедшую «эпоху горелого мяса», вызывает чувство обреченности человечества в настоящее время. Об этом размышляли многие великие умы прошлого столетия, в частности, Ж. Липовецки пришел к такому выводу, что общество больше не имеет ни идолов, ни запретов: у него нет ни величественных образов, в которых оно видит себя, ни исторических замыслов, которые мобилизуют массы. Отныне нами правит пустота, однако такая пустота, которая не является ни трагической, ни апокалиптической [6, c. 21]. И этому положению созвучно мнение М. Брэдбери: «Мы вступили в эпоху плюрализма, эпоху, лишенную того, что Гегель назвал Абсолютной Идеей. Кажется, впервые человечество устремляется по дорогам истории, не вооружившись генеральной идеей, а это все равно, что плыть по Атлантическому океану без карты. То есть дело вполне возможное, но обреченное. Дай бог в живых остаться, а уж попасть в порт назначения и не мечтай» [1, c. 205]. А отсутствие идеи превращает историю (history) в сумбур;
мир скатывается в никуда, и новая эпоха, начавшись лишь десяток лет назад, как будто бы уже заканчивается. Но, по мнению профессора Криминале, «история закончиться не может – она все время продолжается, обретая ту или иную форму» [1, c. 325]. Можно говорить только о конце homo historicus, индивидуума, усматривающего смысл или цель в истории.
По ходу развития действия романа слова «story» и «history» начинают все чаще чередоваться и в конце концов отождествляются. Повествование о Басло Криминале Фрэнсис Джей соотносит с линией развития новой истории Европы. Начиналось оно с жестокой идеологии, заканчивалось произвольной, неопределенной метафизикой. И для европейцев это была более или менее общая история (story). По меткому замечанию тайного агента ЕЭС Козимы Брукнер, мир полон заговоров, и после второй мировой войны он часто представлял собою детективную историю. Таким образом, М. Брэдбери представляет историю Европы и Басло Криминале – воплощение этой истории – как текст, тем самым реализуя один из важнейших принципов постмодернизма. И в данном аспекте history прочитывается как story, поэтому, когда заканчивается история Криминале, его жизненный путь, наступает конец и той эпохи, в которую он жил. Об этом свидетельствует и неоднократное повторение в романе фразы: «Эпоха кончилась» («An Era Is at the End»).
Таким образом, можно говорить о принадлежности Криминале прошлому как части истории. Ответ на вопрос о том, кто останется в истории после его ухода, дается на композиционном уровне романа. Из всех главных персонажей в финале писатель оставляет только Фрэнсиса Джея и Козиму Брукнер. Джей – «современный либеральный гуманист», живущий в «эпоху безысторийной истории, во время после времени». Он укрылся от «сапожищ истории на затерянном островке, забился в уютную с виду берлогу у края столетия» [1, c. 64]. Следует отметить, что в данном случае конкретное пространственные обозначения получают обобщенное значение в соотнесении с временным определением («у края столетия»), и тогда «затерянный островок» мыслится как Великобритания, а «уютная берлога» превращается в знак индивидуальной обособленности личности в переломные моменты истории. Джей – типичный представитель поколения Reebok, живущий на стыке 80-х и 90-х годов, в «зазоре эпох», когда ведущим направлением в культуре стал постмодернизм. И это помогло ему «деконструировать» историю Криминале и осмыслить ее как историю Европы. По своим взглядам Джей, безусловно, принадлежит настоящему.
В отличие от Джея, взгляд Козимы Брукнер направлен в будущее. Она разделяет устремления тех государственных деятелей, которые ведут политику объединения Европы. Новая Европа потребует нового мышления, нового типа личности. И как это ни парадоксально, это – тип Басло Криминале, потому что, как пишет Брэдбери, «Криминале был сам космополитизм, сама современность, но вместе с тем и неоспоримый представитель вечности» [1, c. 221]. Этот великий человек принадлежал всем и одновременно никому. Он превратил «бездомье» в особую постмодернистскую стилистику, назвав так свою главную книгу. И через этот образ «бездомья» происходит синтез сюжетнокомпозиционного и иносказательного уровней романа. Таким образом, «бездомье» становится символом эпохи Криминале и в то же время безотрадной перспективой для будущих поколений. И хотя история (history) выходит на новый уровень, начинает новую историю (story), по мнению Брэдбери, мы обречены жить вечно в настоящем, потому что не существует никакого будущего. В этом утверждении выражается один из основных принципов эссеистического творчества – в эссе человек предстает как испытанный своим прошлым и испытующий свое будущее, на переходе возможности и действительности, в точке предельного совпадения «я» с настоящим [9, c. 344]. А в этой точке мы можем наблюдать сам процесс, «вечное настоящее», которое открыто во всех направлениях.
Используя различные стилистические приемы в рамках «традиционной» романной формы, наполняя многие детали символическим значением, М. Брэдбери осмысливает опыт индивидуального бытия как неотъемлемую часть общественно-исторического опыта.
Баланс сил личности и объективного мира все время подвергается анализу, выражаясь в форме авторского размышления, создающего основную структуру эссе, специфичность которой выражается в преобладании мысли над образом, в постоянных взаимопереходах мысли и образа.
По мере развития сюжета увеличивается удельный вес эссеистического начала, так как Джей пытается все глубже и глубже постигнуть духовноинтеллектуальную суть профессора Криминале. Он изменяет свое видение тайны этого философа: стремление преподнести Криминале «под соусом» (на что была нацелена продюсер проекта «Нада продакшнз» Лавиния) исчезает, входя в противоречие с личностью самого Джея. Ведь Джей тоже интеллектуал, хотя и не такого масштаба, как Криминале, и стараясь постичь сущность великого философа, он через него осмысливает и своеобразие своей эпохи. Недоверчивая подозрительность уступает место искреннему интересу: «Главная загадка – он сам: его диковинная, совершенно неотразимая харизма; поразительная сила интеллекта; наконец, ощущение того, что он может знать ответы на вопросы, которыми мучается наша сумбурная эпоха» [1, c. 237].
Романное действие постоянно перебивается разноаспектными авторскими размышлениями о проблемах культуры ХХ века, о роли личности в истории. И таким образом создается как бы вторичная художественность как сфера контакта авторской мысли с особой художественной действительностью, вымышленным романным миром. Композиция романа приобретает коллажномонтажный характер, что проявляется во включении в повествовательную ткань произведения цитат из философских работ таких великих мыслителей, как Ницше, Лукач, Хайдеггер, а также аллюзий и реминисценций из произведений писателей ХIХ-ХХ веков, в том числе и собственных сочинений автора данного романа.
Итак, взаимопроникновение и синтез разноприродных начал – эссеистического и романного – характерная черта литературы ХХ столетия, которая нашла отражение в позднем творчестве М. Брэдбери.
Сочетание образа и понятия обусловило постоянный контакт мысли автора с действительностью, воспринимаемой в движении, дало возможность временных и пространственных переключений, переходов и даже «бросков» в повествовании, импульсивных, как сама мысль. Взаимопереходы образа и понятия осуществляются в эссе особенно – в «зоне души» автора романа «Профессор Криминале». В систему художественного произведения включаются элементы эссе, которые, временами отодвигая на второй план «внешний», событийный сюжет, приобретают первостепенное значение. Это и составляет одну из главных черт анализируемого произведения. Но не следует говорить о присутствии какого-то определенного количества отдельных эссе в романе, потому что фрагменты из критических работ, социологических исследований и малых литературных сочинений М. Брэдбери органично вплетены в повествовательную ткань романа. Все части романа организованы движением мысли, но это именно «романная мысль»: развитие сюжета, в центре которого образ философа Криминале, и осмысление этого образа равно важны и их невозможно разделить. Поэтому неоспорим тот факт, что синтез эссеистического и романного охватывает все произведение и каждый элемент его структуры. Роман захватывает читателя не только поворотами сюжета, но и силой и насыщенностью личностного авторского начала. В силу этого образы произведения приобретают большую глубину, наполненность, «интеллектуальность».
Роман и эссе, соединяясь в едином творческом акте, обретают в рамках новообразованной формы нераздельное синтетическое единство, сочетают в своей поэтике черты обоих начал. Эссеистическое начало, в своем слиянии с романом, становится одним из путей лиризации, интеллектуализации, философичности современной модификации романной структуры. Но новообразованная форма выступает прежде всего как многопланово реализованное отражение «я» писателя. Связанность повествования держится лишь энергией авторского «всеприсутствия».
Список литературы Синтез романного и эссеистического начал в "Профессоре криминале" М. Брэдбери
- Брэдбери М. Профессор Криминале: роман / М. Брэдбери; пер. с англ. Б. Кузьминского, Г. Чхартишвили, Н. Старовской. - М.: Иностранная литература; Б.С.Г.ПРЕСС, 2000. - 472 с.
- Бьяльке, Х. Малькольм Брэдбери: синдром "Fin de siecle" / Х. Бьяльке // Иностранная литература. - 1992. - № 7. - С. 236-238.
- Зверев, А. М. Homo historicus / А. М. Зверев // Иностранная литература. - 2002. - № 12. - С. 155-160.
- Зенкин, С. Н. Жанр эссе / С. Н. Зенкин // Французская литература. 1945-1990. - М.: Наследие, ИМЛИ им. А.М. Горького, 1995. - С. 797-841.
- Зонина, Л. А. Тропы времени: Заметки об исканиях французских романистов (60-70-е годы) / Л. А. Зонина. - М.: Художественная литература, 1984. - 263 с.
- Липовецки, Ж. Эра пустоты: Эссе о современном индивидуализме: пер. с фр. / Ж. Липовецки. - СПб.: Владимир Даль, 2001. - 331 с.
- Новоселова, И. Г. Развитие жанра эссе как тенденция литературного процесса 60-80-х годов: автореф. дис.... канд. филол. наук / Ирина Германовна Новоселова; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. - Владивосток, 1990. - 24 с.
- Филюшкина, С. Н. Современный английский роман: Формы раскрытия авторского сознания и проблемы повествовательной техники / С. Н. Филюшкина. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1988. - 184 с.
- Эпштейн, М. Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии ХIХ-ХХ веков / М. Н. Эпштейн. - М.: Советский писатель, 1988. - С. 334-380.
- Якимович, А. Культура и преступление (О чем говорят и о чем стараются не говорить в конце ХХ века) / А. Якимович // Иностранная литература. - 1995. - № 1. - С. 245-250.