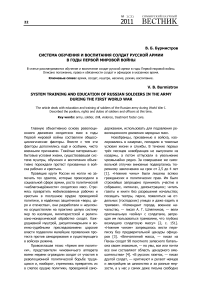Система обучения и воспитания солдат русской армии в годы Первой мировой войны
Автор: Бурмистров Владимир Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются обучение и воспитание солдат русской армии в годы Первой мировой войны. Описано положение, права и обязанности солдат и офицеров в указанное время.
Армия, солдат, муштра, насилие, режим, воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/14113574
IDR: 14113574
Текст научной статьи Система обучения и воспитания солдат русской армии в годы Первой мировой войны
Главную объективную основу революционного движения солдатских масс в годы Первой мировой войны составляли общесоциологические факторы. Вместе с тем эти факторы дополнялись ещё и особыми, чисто военными причинами. Тяжёлые материальнобытовые условия жизни, существовавшая система муштры, обучения и воспитания объективно порождали протест призванных в войска рабочих и крестьян.
Правящие круги России не могли не замечать тех сдвигов, которые происходили в социальной сфере армии, роста политической «неблагонадёжности» солдатских масс. Стремясь превратить мобилизованных рабочих и крестьян в послушное орудие проводимой политики, в надёжных защитников «веры, царя и отечества», они разработали и неуклонно осуществляли на практике целую систему мер по изоляции, милитаристской и религиозно-монархической обработке солдат. Каждодневной муштрой, дисциплинарными и военно-судебными преследованиями царские власти подавляли малейшие проявления протеста против самодержавия и существующего в войсках режима.
Провозглашая тезис «Армия вне политики», представители чиновничьего аппарата всеми мерами ограждали солдат от участия в революционной политической борьбе трудящихся и, наоборот, стремились превратить их в слепое орудие политики, проводимой само- державием, использовать для подавления революционного движения народных масс.
Новобранцы, призванные в войска, изолировались в казармах, попадали в тяжелые условия жизни и службы. В течение первых трёх месяцев новобранцев не выпускали из казармы, а потом отпускали в увольнение чрезвычайно редко. За совершение же самовольной отлучки виновные подвергались тюремному заключению на срок от 2,5 до 4 лет [1]. «Нижние чины» были лишены всяких гражданских и политических прав. Им было строжайше запрещено принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях; читать газеты и книги без разрешения начальства; посещать театры, парки, появляться на отдельных (господских) улицах и даже ездить в трамваях. «Комендант города, военное начальство, — писал А. Г. Шляпников, — вели оригинальную «войну» с солдатами, запрещая им пользоваться трамваями, что глубоко возмущало солдатскую массу» [2, с. 151]. «Нижним чинам» запрещалось вести переписку без предварительной цензуры офицеров [3]. «Впечатлений масса, — писал из Пензы солдат 98 пехотного запасного батальона своим знакомым, — но увы, все или почти все они составляют область цензурного вмешательства» [4]. «В русских газетах, — писал другой солдат, — критикуют и ругают немцев и австрийцев за шпионство и за разные мерзости, а у нас у самих даже письма свободно написать стало нельзя. Наверное скоро будут подслушивать, что мы говорим на печке» [5].
В воинских уставах определялись лишь обязанности солдат, перечислялись меры наказания за их невыполнение и почти ни слова не говорилось об их правах. Даже обращение с жалобами и претензиями к командованию рассматривалось как преступление. В одном из писем домой солдат писал: «Мы голодны и холодны. Если скажешь, что голоден, у меня ноги не идут, то сейчас же высекут, а то и расстреляют» [6, с. 92].
Первейшей обязанностью «нижнего чина», говорилось в Дисциплинарном уставе, является «защита престола и Отечества от врагов внутренних и внешних» и «содействие начальнику в усмирении неповинующихся». Он был обязан выполнять любые распоряжения начальника, в том числе и те, которые были направлены на то, чтобы «принудить к повиновению силой или оружием и принять зависящие меры для прекращения беспорядков» [7, с. 158]. Очень образно о правах солдата говорит в своих воспоминаниях участник Первой мировой войны И. Ф. Долинский: «Солдат» серая скотина, порция, его можно ударить по морде, над ним можно издеваться, как душе угодно, — он мужик-лапотник. Лексикон слов у солдат был мал и лаконичен: — Слушаюсь! Так точно! Никак нет! Не могу знать! Рад стараться! Покорнейше благодарю! Здравия желаю! Ко всему этому надо обязательно прибавить титул: Ваше благородие, Ваше высокоблагородие, Ваше превосходительство !
Солдат не имел права высказывать своего мнения, он только покорно и беспрекословно выполнял то, что ему приказывало начальство» [8].
И наоборот. Офицеры по отношению к своим подчинённым пользовались почти неограниченной дисциплинарной властью. Они могли сажать солдат под «строгий арест», содержать их в тёмном карцере, заковывать в кандалы, держать на хлебе и воде, ставить «под ружьё», предавать военному суду. Кроме «уставных», офицеры безнаказанно применяли массу придуманных ими наказаний. Так, скажем, только за то, что солдат не поприветствовал прапорщика Мичурина (239-й пехотный запасный полк г. Симбирска), тот застрелил его [9]. Надо отметить, что этот факт произвола серьёзных последствий для прапорщика не имел.
Важнейшим средством подавления классового самосознания солдат являлись военные суды, военное законодательство. «Воинским уставом о наказаниях» предусматривались жесткие карательные меры за малейшее нарушение порядка подчинённости и чинопочитания, за любое проявление недовольства и протеста. За ропот против распоряжений начальства, жалобы на тягость службы или неповиновение солдаты в мирное время подлежали заключению в крепости до 4-х лет или отправке в дисциплинарный батальон до 3-х лет, а в военное время ссылке на каторжные работы до 12 лет [10].
Оскорбление начальника во время исполнения служебных обязанностей влекло за собой в мирное время заключение в крепость до 4-х лет или отдачу в дисциплинарный батальон до 3-х лет, а виновные в физическом оскорблении начальника во время войны подлежали «смертной казни через расстреляние» [11]. Примеров в этом отношении можно было бы приводить много. Вот один из них. «Рядовой 84 обозного батальона Г. Наумов 20 октября 1915 года за неисполнение приказания своего фельдфебеля снять в помещении шапку был посажен на гауптвахту при 100 запасном батальоне. 24 ноября командир II роты 100 запасного батальона прапорщик Пташко, заступив дежурить по батальону, зашёл в помещение гауптвахты и стал производить личный обыск содержащихся под арестом. Когда прапорщик Пташко хотел обыскать Наумова, последний оказал в этом сопротивление, тогда прапорщик Пташко хотел сделать это силою, но Наумов быстро схватил его за обе руки и не дался себя обыскивать. О таком поступке Наумова было донесено Командующему Казанским военным округом, последний приказал предать Наумова Военно-полевому суду, и 28 октября он был приговорён к лишению всех прав состояния и к смертной казни через расстрел» [12].
Очень строгие наказания предусматривались за проявление коллективного неповиновения и протеста. «За всякого рода соглашения в числе 2-х и более лиц с целью противодействовать начальству или его распоряжениям» в мирное время виновные подлежали заключению в крепости до 4-х лет, а в военное время — ссылке на каторжные работы до 8 лет. Выступление же «в числе 8 или более человек с намерением воспротивиться начальству или нарушить долг «службы» рассматривалось как «явное восстание», и участники его в мирное время ссылались на вечную каторгу, а во время войны подлежали расстрелу [7, с. 159].
Всё это делало воинскую службу невыносимо тяжелой. «Казарма в России, — писал В. И. Ленин, — была сплошь да рядом хуже всякой тюрьмы; нигде так не давили и не угнетали личность, как в казарме; нигде не процветали в такой степени истязания, побои, надругательства над человеком» [13, с. 112].
Система военного обучения и идеологической обработки солдат была построена на жестокой муштре и насилии над личностью. Как подтверждение этому — скупые отроки солдатских писем того периода: «Самара, казармы, ежедневная муштра...» [14], «...занятия в праздничные и воскресные дни...» [15], «...зимой было время, что нас, больных, не оставляли в казарме, а всех выводили на занятия. И «не было» больных, а прямо с занятий несли их в больницу. А сколько их померло» [16]. Такими мерами командование стремилось сломить волю новобранцев, заставить их забыть о своих классовых интересах, превратить в послушные в руках офицеров «самодействующие винтики». Видя произвол, безысходность, солдаты порой не выдерживали и кончали жизнь самоубийством [17].
Давая характеристику существующей в армии «системы воспитания», солдат-большевик Н. И. Муралов в марте 1917 года писал: «Попадая в казарму, молодые солдаты подвергались варварским испытаниям. Из них «вытравляли» всё человеческое, внушали звериное, ибо конечной целью монархического строя являлось превращение человека-гражданина в автомата-воина, способного расстреливать по первому требованию начальства всех людей, вплоть до отца и матери» [18]. Всё это осуществлялось в свете требований вышестоящего командования. Так, своим приказом № 503 от 2 октября 1914 года Командующий Казанским военным округом требовал: «Молодым солдатам следует внушить, что главное назначение солдата — одолеть врага, не щадя своей жизни... Воспитание солдата вести в укреплении веры в Бога, беспредельной преданности Царю и любви к Родине» [19].
Ещё более изощренной и унизительной в армии была система обучения. Генерал
П. Д. Бурский отмечал, что офицеры и унтер-офицеры, обучавшие солдат, «не вкладывали» в их головы «требуемые воинскими уставами знания службы, а вколачивали их при помощи палок, кулаков и прочих способов, создающих из военной службы форменный ад» [20, с. 17]. Не отрицает этого и генерал А. И. Деникин, который пишет: «Армейские будни заволокло грубостью, произволом и самодурством [21, с. 202], ...были нередки грубость, ругня, самодурство и заушения. Такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской среде, с тою лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее и жестче» [22, с. 95].
Повсеместно в казармах процветали жестокая муштра, бессмысленная зубрежка, ругательства, оскорбления и мордобой. «143 пехотный запасный полк, — вспоминал И. Т. Козырьков, — был одним из самых реакционнейших полков, даже офицеры этот полк называли дисциплинарным батальоном, где больше, чем в других частях, свирепствовало мордобитие и прочие истязания солдат. Командовал полком свирепый зверь полковник Сипайло...» [23]. «Среди нижних чинов 160 пехотного запасного батальона, — сообщалось начальнику Симбирского губернского жандармского управления, — есть недовольство на некоторых прапорщиков, бывших ранее приказчиками, конторщиками, парикмахерами и т. д., за излишнюю придирчивость и рукоприкладство». « Всё делается по команде, — читаем в одном из писем, — всюду приходится принимать искусственные позы. За малейшее уклонение от сего следует «мордобитие и стойка под ружьём». Вчера ротный командир избил на глазах всей команды молодого солдата за то только, что тот пошевелил рукой при его входе» [24, с. 41].
«В царской армии, — писал А. Г. Шляпников, — господствовали скотские порядки. Бесправный солдат обворовывался, служил предметом издевательств для одетых в офицерские мундиры барчуков. Его... били в «зубы», пороли... и применяли множество всяческих наказаний, вплоть до расстрелов, во имя «дисциплины» [2, с. 151].
Командование частей, офицерский состав и духовенство следили за настроениями солдат, систематически проводили обыски и осмотры их личных вещей, организовывали слежку за политически «неблагонадёжными» солдатами. Чтобы не допустить пополнения воинских частей такими солдатами, из вышестоящих инстанций одна за другой сыпались телеграммы примерно такого содержания: «Немедленно проверить, нет ли среди проживающих в пределах вверенной вам губернии лиц, состоящих под надзором полиции в порядке 34-й статьи Положения об охране, нижних чинов запаса и ратников ополчения, подлежащих зачислению в войска по бывшим призывам. Результаты проверки сообщите для отдания в войска» [25]. Или «...прием в войска всех без исключения поднадзорных, достигших призывного возраста, был бы едва ли целесообразен, так как при таком условии попали бы в ряды войск и крайне вредные для воинских частей элементы, заподозренные в серьёзной революционной деятельности...» [26]. Стать политически «неблагонадёжным» можно было, даже написав в связи с войной в газету стихи, в коих офицерами найдено было «вольнодумство», за что автора и отправили в маршевую роту [27].
Однако во время войны, в связи с увеличением численности армии, возможность такого «контроля за умами» солдат сократилась. Если в 1914 году в среднем на каждого строевого офицера приходилось 27 солдат, то в 1917 году — 52 [7, с. 161]. «Офицерский корпус, которому было вверено их обучение, был слишком малочисленен, чтобы держать в руках такое количество людей. Он состоял из прибывших с фронта инвалидов и раненых и из молодежи из военных школ, совершенно неспособной поддержать дисциплину при наступлении кризиса» [28, с. 207].
Важную роль в религиозно-монархической обработке солдат играло военное духовенство, объединявшее в себе около 7 тысяч священников во главе с протопресвитером военного и морского духовенства Г. И. Шавельским. Солдаты должны были несколько раз в день являться на обязательную молитву. Во время молебствий священники внушали им мысль о необходимости смирения, долготерпения, рабской покорности и беспрекословного повиновения начальникам, как слугам божьим.
Грубые, деспотичные формы господства командного состава, очень тяжёлые материально-бытовые условия жизни вызывали возмущение, часто служили поводом для много- численных стихийных выступлений протеста солдатских масс. Преодолевая противодействие офицеров, выступления солдат порой приобретали вооружённые формы.
-
1. См.: Симбирские губернские ведомости. 1916. 13 февр.
-
2. Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: в 3 т. Т. 1. Канун семнадцатого года. М.: Политиздат, 1992.
-
3. См.: ГАУО. Ф. 934. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 7, 15, 22, 29.
-
4. Там же. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 10.
-
5. Там же. Д. 1262. Л. 52.
-
6. Медведев Е. И. Установление и упрочение советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958.
-
7. Гаркавенко Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года: дис.... д-ра ист. наук. Л., 1973.
-
8. АО ЦДНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 209. Л. 2.
-
9. См.: ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1316. Л. 96 об.
-
10. См.: Свод военных постановлений. Изд. 4-е. СПб., 1869. Кн. 22. Воинский устав о наказаниях. Ст. 105, 108.
-
11. Там же. Ст. 97, 98.
-
12. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1271. Л. 299, 299 об.
-
13. Ленин В. И. Войско и революция // Полн. собр. соч. Т. 12.
-
14. ГАСО. Ф. П.-3500. Оп. 1. Д. 307. Л. 17.
-
15. Там же. Ф. З. Оп. 233. Д. 3792. Л. 31.
-
16. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 10.
-
17. См.: ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 62.
-
18. Солдат-гражданин. 1917. № 3. 17 марта.
-
19. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1059. Л. 38.
-
20. Бурский П. Д. Революция и офицеры. М., 1917.
-
21. Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991.
-
22. Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии, февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991.
-
23. ГАСО. Ф. П.-3500. Оп. 1. Д. 199. Л. 1.
-
24. Царская армия в период Первой мировой войны и Февральской революции. Казань, 1932.
-
25. ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 827. Л. 2.
-
26. См.: там же. Л. 21.
-
27. См.: ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 13.
-
28. Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Междунар. отношения, 1991.
Список литературы Система обучения и воспитания солдат русской армии в годы Первой мировой войны
- Симбирские губернские ведомости. 1916. 13 февр.
- Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: в 3 т. Т. 1. Канун семнадцатого года. М.: Политиздат, 1992.
- ГАУО. Ф. 934. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 7, 15, 22, 29.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 10..
- Медведев Е. И. Установление и упрочение советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958.
- Гаркавенко Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года: дис.... д-ра ист. наук. Л., 1973.
- АО ЦДНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 209. Л. 2.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1316. Л. 96 об.
- Свод военных постановлений. Изд. 4-е. СПб., 1869. Кн. 22. Воинский устав о наказаниях. Ст. 105, 108.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1271. Л. 299, 299 об.
- Ленин В. И. Войско и революция//Полн. собр. соч. Т. 12.
- ГАСО. Ф. П.-3500. Оп. 1. Д. 307. Л. 17.
- ГАСО. Ф. З. Оп. 233. Д. 3792. Л. 31.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 10.
- ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 62.
- Солдат-гражданин. 1917. № 3. 17 марта.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1059. Л. 38.
- Бурский П. Д. Революция и офицеры. М., 1917.
- Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991.
- Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии, февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991.
- ГАСО. Ф. П.-3500. Оп. 1. Д. 199. Л. 1.
- Царская армия в период Первой мировой войны и Февральской революции. Казань, 1932.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 827. Л. 2.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 13.
- Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Междунар. отношения, 1991.