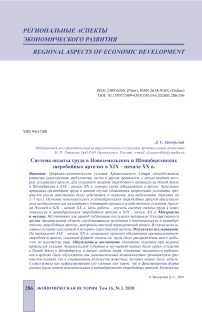Система оплаты труда в Новоземельских и Шпицбергенских зверобойных артелях в XIX - начале XX в.
Автор: Заозерский Даниил Сергеевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Региональные аспекты экономического развития
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Природно-климатические условия Архангельского Севера способствовали развитию судостроения, рыболовства, охоты и других промыслов, с целью ведения которых создавались артели. Для успешного ведения зверобойного промысла на Новой Земле и Шпицбергене в XIX - начале XX в. поморы также объединялись в артели. Артельные принципы организации труда в данном случае объяснялись непростыми условиями промыслов (когда невозможно было действовать в одиночку или небольшими отрядами по 2-7 чел.). Изучение новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелей представляется необходимым для дальнейшего понимания процесса хозяйственного освоения Арктики Россией в XIX - начале XX в. Цель работы - изучить систему оплаты труда в новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелях в XIX - начале XX в. Материалы и методы. Источниками для данной публикации послужили материалы Государственного архива Архангельской области, опубликованные источники о новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелях, материалы местной периодической печати. В статье использованы историко-системный и историко-генетический методы. Результаты исследования. На протяжении XIX - начала XX в. сохранялся принцип объединения промышленников-зверобоев в артели, основной формой оплаты их труда было распределение всего добытого по количеству паев. Обсуждение и заключение. Основным отличием при ведении промыслов уездами Архангельской губернии в изучаемый период были сроки отплытия к Новой Земле и Шпицбергену и начало добычи зверя. Снижение численности работников в артелях было обусловлено как экономическими возможностями организаторов промыслов (хозяев), так и уменьшением количества животных, которых можно было добыть. Существовала как нефиксированная (по ужинам или паям), так и фиксированная форма оплаты труда членов новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелей. Количество паев превышало численность работников артели. Размер ужины (пая) определял хозяин, который до начала промысла обеспечивал всем необходимым как членов артели, получавших ужину, так и получавших фиксированную плату за труд. Наиболее распространенным (вплоть до начала XX в.) было деление добычи, когда хозяин получал 2/3, а работники - 1/3.
Арктика, новая земля, шпицберген, морские и зверобойные промыслы, артели, покрут, система оплаты труда
Короткий адрес: https://sciup.org/147218555
IDR: 147218555 | УДК: 94(47)08 | DOI: 10.15507/2409-630X.050.016.202003.286-296
Текст научной статьи Система оплаты труда в Новоземельских и Шпицбергенских зверобойных артелях в XIX - начале XX в.
Природно-климатические условия Архангельского Севера способствовали развитию таких видов экономической деятельности населения, как судостроение, рыболовство, охота и другие промыслы, с целью ведения которых создавались артели. Для успешного ведения зверобойного промысла на Новой Земле и Шпицбергене в XIX – начале XX в. поморы также объединялись в артели. Артельные принципы организации труда в данном случае объяснялись непростыми условиями промыслов (когда невозможно было действовать в одиночку или небольшими отрядами по 2–7 чел.). Изучение новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелей представляется необходимым для дальнейшего понимания процесса хозяйственного освоения Арктики Россией в XIX – начале XX вв.
Цель данной статьи – изучить систему оплаты труда в новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелях в XIX – начале XX в.
Обзор литературы
Описанные Н. Я. Озерецковским [13–15] обычаи внутренней организации артелей в последней трети XVIII в. получили подтверждение в свидетельствах очевидца новоземельских промыслов 1837 г. К. М. Бэра [4] и в полученных С. В. Максимовым [9] в ходе его поездки по Архангельской губернии в середине XIX в. сведениях, что позволяет говорить о сохранении и преемственности традиций.
Изменения, происходившие в зверобойных артелях во второй половине XIX в., раскрыты в работах Н. Я. Данилевского [5], П. С. Ефименко [7], А. Я. Ефименко [6]. Особенности обеспечения членов новозе-мельских артелей всем необходимым для ведения промысла, а также порядок оплаты их труда в конце XIX – начале XX в. содержатся в работе Б. М. Житкова, посетившего Новую Землю в 1900 г. [8, с. 69].
В советский период тема зверобойных артелей Архангельского Севера нашла отражение в монографии Т. А. Бернштам «Поморы: формирование группы и система хозяйства» [3].
Современный взгляд отечественных исследователей на зверобойные артели Архангельского Севера представлен в статьях В. В. Аверьянова [1], И. Н. Белобородовой [2], Т. С. Минаевой [10] и С. А. Никонова [11–12].
Некоторые сведения о шпицбергенских артелях XVIII – первой половины XIX в. содержатся в работах таких зарубежных ученых, как Д. Аванго, У. Врокберг, М. Конвей, Л. Хакборд, М. Э. Ясински [16–18].
Методы
В статье использован историко-системный метод, при котором деятельность зверобойных артелей рассматривается как часть процесса хозяйственного освоения Арктики Россией в XIX – начале XX в. Историко-генетический метод был применен для раскрытия особенностей оплаты труда членов новоземельских и шпицбергенских артелей на протяжении исследуемого периода.
Источниками для данной статьи послужили:
– «Морской устав», составленный на основе обычаев мезенских промышленников 1748 г., введенный в научный оборот Н. Я. Озерецковским и опубликованный в 1846 г.1;
– «Атлас Архангельской губернии с топографическими, историческими, еконо-мическими и камеральными описаниями», 1797 г.2;
– делопроизводственные документы Беломорской компании (1803–1813 гг.);
Озерецковский Н. Описание моржового промысла (Продолжение) // Архангельские губернские ведомости. – 1846. – № 41. – Отдел второй. Часть неофициальная. – С. 623–627 ; Его же. Описание моржового промысла (окончание) // Архангельские губернские ведомости. – 1846. – № 42. – Отдел второй. Часть неофициальная. – С. 638–642.
Овсянников О. В. Поморская промысловая «энциклопедия» конца XVIII в. / cост. А. Н. Давыдов, А. А. Куратов ; отв. ред. К. В. Чистов // Культура Русского Севера. – Л., 1988. – С. 71–85.
– материалы периодической печати из «Архангельских губернских ведомостей».
– «Договор хозяина с новоземельскими промышленниками (из «Книги сделок и договоров Кузоменского Волостного Правления», 1869 г.)», опубликованный А. Я. Ефи-менко3.
Результаты
В конце XVIII в. зверобойным промыслом на Новой Земле и Шпицбергене занимались жители Мезени, Архангельска, Холмогор, Онеги, Кеми и Колы, крестьяне Архангельской, Холмогорской и Кольской округ, а также крестьяне Онежского и Кемского уездов. Жители Мезени вели промысел на Новой Земле и на Канином Носе, а жители Архангельска, Онеги, Кеми и Колы – преимущественно на Шпицбергене, в том числе на Новой Земле4. Время начала промыслов разнилось, в зависимости от местности, откуда отправлялись артели. Так, из Архангельска на Шпицберген и Новую Землю отплывали в начале июня, из Онеги и Кеми – немногим ранее, а из Колы – в мае. Жители Мезени отправлялись на Новую Землю в середине мая5.
Обычаи, действовавшие в артелях, возникли в ходе естественного развития промыслов на Новой Земле и Шпицбергене. По-крут на Архангельском Севере означал наем на рыбные и зверобойные промыслы, при котором хозяин (организатор промыслов и человек, объединивший людей в артель) предоставлял работникам судно, орудия, продовольствие и одежду. Работники (покрутчики, покру(т)ченики или покрученники) участвовали в артели только своим трудом, при этом весь предполагаемый доход промысла делился на несколько частей (паев, уж(и)н), количество которых, как правило, превосходило численность артели. Члены артели отдавали хозяину часть добычи в качестве платы за полное снабжение. Принцип раздела добытой продукции на ужины использовался еще в XVII в. [11, с. 17–18].
В. В. Аверьянов справедливо замечает, что хозяин артели, выплачивая нефиксированную заработную плату, страховал себя от неудач во время промысла [1, с. 115], к которым относились низкая прибыль, гибель людей или судна, утрата снаряжения или орудий. Благодаря такой оплате труда хозяин мог специально не контролировать работу артели – она выступала как самоуправляющийся и самостоятельный коллектив, заинтересованный в наилучших результатах своей деятельности [1, с. 115].
Т. А. Бернштам, опираясь на письменные источники, сообщает о действовавшем на моржовом промысле с начала XVIII в. способе раздела добычи, когда две трети ее получал наниматель и владелец судна, а оставшуюся треть – члены артели [3, с. 151]. Доказательства использования такой практики встречаются и позднее, в устных сообщениях промышленников, полученных С. В. Максимовым в середине XIX в. [9, с. 381] и Б. М. Житковым в конце XIX – начале XX в. [8, с. 69]. При этом С. В. Максимов дает более точное описание: кормщик (глава артели во время похода и зимовки) из остальной трети добытого получал в 4–7 раз больше покрутчика; полукормщик (второе по старшинству лицо в артели) – в 2 раза меньше кормщика; полууженщик (третий по старшинству человек в артели) – в 2 раза меньше полукормщика. В свою очередь по-крутчику полагалось в 2 раза меньше или еще меньше [7, с. 161; 9, с. 381].
Используя устные сведения, полученные В. В. Крестининым и А. И. Фоминым от поморов, Н. Я. Озерецковский применительно к началу 1780-х гг., сообщал, что промышленники отправлялись на промысел «на иждивении хозяина» и с точки зрения оплаты труда представляли собой две группы: получавшие долю от добытой продукции и те, с кем рассчитывались деньгами [13, с. 571]. Раздел добычи производился следующим образом: хозяин, снарядивший судно, забирал себе одну половину продукции, другая половина распределялась по паям между промышленниками. При этом участвовавший в промысле мог получать от четверти до целого пая6. Доля (пай) отдельного человека из первой группы обсуждалась с хозяином и зависела от мастерства работника. Заработок членов артели из второй группы составлял от 5 до 10 руб. за летний сезон, пай им не полагался. Хозяин снабжал продовольствием, необходимыми орудиями и судном с одним или двумя карбасами обе группы промышленников [13, с. 571]. Фиксированная оплата труда отдельных членов зверобойных артелей существовала и ранее. Примером может служить отправка Соловецким монастырем промышленников на Шпицберген в 1737 г., когда четверо из 14 артельщиков получили оплату деньгами [11, с. 18].
В «Атласе Архангельской губернии с топографическими, историческими, економиче-скими и камеральными описаниями» 1797 г. приводится описание более сложного способа раздела добычи, когда из общего количества ужин вычиталось от 7 до 13 в пользу хозяина за содержание судна, снастей и инструментов. Кормщик получал полторы – три ужины, подкормщик – одну. Две трети оставшихся ужин также забирал хозяин, но уже за обеспечение работников провизией. Наконец, оставшаяся треть полагалась работникам, которые получали из нее четверть, треть или половину ужины. Кроме того, во время отправки судна каждый работник, как правило, получал от хозяина обуточные (денежную сумму «как бы на обувь»), т. е. аванс, который не нужно было возвращать при разделе добычи. Размер обуточных зависел от мастерства члена артели и составлял в конце XVIII в. 2–5 руб. для обычного работника, 10 руб. – для искусно- го и опытного промышленника; наконец, от 30 руб. и более – для кормщика7. Из этого следует, что различные способы распределения продукции промыслов не заменяли друг друга, а существовали единовременно.
Можно отчасти согласиться с утверждением Т. А. Бернштам, что в XIX в. бóльшая часть артельной добычи поступала частному лицу (т. е. хозяину) [3, с. 152], в то же время исключением является пример «Беломорской промысловой компании» (1803– 1813 гг.), артели которой будут рассмотрены далее.
В 1804 г. компания начала промыслы на островах архипелагов Шпицберген и Новая Земля. В 1804 г. «Беломорская компания» приобрела суда «Св. Климент» («Св. Кле-мент»)8 и «Св. Николай и Максим» для ведения промысла на Шпицбергене9. Членам артелей «Св. Климента» и «Св. Николая и Максима» была безвозмездно предоставлена провизия на период до отправления судна из Архангельска, на время плавания к Шпицбергену и ведения промысла10. Выданные шпицбергенским промышленникам (с указанием стоимости) и возвращенные компании орудия фиксировались в журналах компании, причем по каждому промышленнику в отдельности, а не по артели в целом11.
Социальный состав артелей на «Св. Клименте» (16 чел.) и на «Св. Николае и Максиме» (19 чел.) был смешанным: крестьяне Архангельской, Пинежской и Шенкурской округ, соливычегодские крестьяне, архангельские и лайские мещане, жители Богословской, Исакогорской, Конецгорской и Троицкой волостей, отставные солдаты, отставной прапорщик, отставной унтер-офицер, отставной матрос, «флота отставной квартермейстер», «отставной адмиралтейский работник»12.
В документах о подготовке «Св. Климента» на промысел сообщалось о возврате денег компании, когда один из нанятых работников умер до отхода судна, а другой сбежал (вероятно, с выданной предопла-той)13. Однако как именно были взысканы денежные средства (с семьи должника или иным способом), не уточняется.
В 1804 г. для ведения новоземельско-го промысла было приобретено судно «Св. Николай и Феодор»14. Если в конце XVIII в. зверобойная артель насчитывала от 16 до 22 чел.15, то в 1804 г. команда «Св. Николая и Феодора» составила 25 чел. (пять отставных солдат, в том числе кормщик, отставной цирюльник, два отставных поручика, три крестьянина Пинежской округи, четыре крестьянина Архангельской округи, по одному крестьянину из Сольвычегодской, Шенкурской, Холмогорской, Устьсысольской и Мезенской округ, один холмогорский мещанин, один мезенский мещанин, три архангельских мещанина)16. Так же как командам «Св. Климента» и «Св. Николая и Максима», артели на «Св. Николае и Феодоре» была безвозмездно предоставлена провизия на период до отправления судна, на время пребывания в море и на промысле в течение двух лет17.
Работа промышленников «Беломорской компании», как и в артелях предыдущего периода, оплачивалась ужиной. Распределение по ужинам производилось до начала промысла, а стоимость одной ужины определялась только после его окончания, когда становился известен объем всей добытой продукции и его стоимость. Важно отметить, что деление на ужины не соответствовало номинальному числу промышленников в артели, т. е. на 16 промышленников могло приходиться 7 целых 11/12 ужин (как это было на «Св. Клименте» в 1804 г.)18. Больше всего получали кормщик и подкормщик (полукормщик) – от полутора до трех и от трех четвертей до одной с четвертью ужин соответственно19. Промышленники получали от трети до одной ужины, причем в некоторых случаях указывалась и такая доля, как «средни(и) пятки» (меньше, чем половина, но больше, чем треть ужи-ны)20.
Неизвестно, в связи с чем увеличивалась или уменьшалась доля ужины отдельного промышленника в разные годы. Можно предположить, что со временем, по мере накопления опыта добычи зверя, происходил рост оплаты труда работника. Неизвестно, как происходил перерасчет ужин, если нанятый работник умирал до отхода судна на промысел. Надо полагать, что в таком случае его часть ужины могла достаться либо кормщику, либо всей артели, либо организатору промысла.
Еще до начала промысла члены артелей получали задаток – деньги «в зачет промысла», но эти суммы разнились и не были связаны с полагавшимися ужинами. Так, работники с одинаковой оплатой в треть ужины могли получить разную сумму. Это могло быть связано с тем, что кто-то из работников был нанят раньше, а кто-то позднее. При этом задаток кормщика и полукормщика был намного выше21. Задаток вычитался из заработка промышленника после окончания промысла.
Промышленники судов «Беломорской компании» получали обуточные, названные в документах компании деньгами «на обувь по договору без зачету из промысла». Так, кормщик и подкормщик «Св. Климента» получили «на обувь» 29 руб. и 15 руб.
соответственно, а члены команды – от 1 до 7 руб.22 Промышленники «Св. Николая и Максима» – от 1 до 10 руб., а кормщик и подкормщик – 30 руб. и 15 руб. соответ-ственно23. Кормщик и подкормщик «Св. Николая и Феодора» – 20 руб. и 15 руб. соответственно, а члены команды – от 1 до 10 руб.24 Чем выше была ужина, тем большая сумма выдавалась «на обувь». В то же время при равной ужине могла быть выдана разная сумма «на обувь». С чем именно связано такое распределение, неизвестно. Тем не менее по сравнению с концом XVIII в. суммы «на обувь» кормщикам несколько снизились.
С закрытием Беломорской компании в 1813 г. частные лица продолжили отправлять зверобойные артели на Новую Землю и Шпицберген. Принцип самоорганизации промышленников в артели и оплаты труда (по количеству паев) сохранялся и в дальнейшем, однако на протяжении второй половины XIX в. число артелей в зверобойной промышленности Севера в целом снизилось.
В конце 1850-х – начале 1860-х гг. ново-земельские промыслы производились поморами только в летнее время. Печорские промышленники в течение нескольких лет еще отправляли суда для зимовки на Новой Земле, однако в дальнейшем пустозерцы стали снаряжать лодьи на архипелаг только на 12 недель [7, с. 162].
П. С. Ефименко и А. Я. Ефименко приводят сведения о том, что в конце 1850-х гг. среди пустозерцев артель на Новую Землю мог снаряжать не один хозяин, а двое или трое вскладчину, даже если речь шла не о зимовке на архипелаге, а только о 12 неделях ведения промысла. Такие хозяева могли лично участвовать в промысле и набирали артель из покрученников, участие которых ограничивалось трудом. Главой артели становился наиболее опытный хозяин; остальные хозяева не вмешивались в его распоряжения, даже если принимали участие в промысле. Исследователи прямо не указывают причины совместной деятельности нескольких хозяев [6, с. 28; 7, с. 162]. Можно предположить, что это было обусловлено упадком поморских промыслов, а также большой стоимостью снаряжения и провизии в результате вторжения англофранцузской эскадры в Белое море в годы Крымской войны (1853–1856 гг.).
По сравнению с первой половиной XIX в. численность новоземельских артелей снизилась. Так, начиная с середины 1860-х гг. хозяева стали нанимать 7–12 работников на шхуну. Исходя из устных сведений, полученных от промышленников и приведенных в «Архангельских губернских ведомостях» в 1867 г., количество паев в 3 раза превышало численность членов артели. Половина паев полагалась хозяину, остальная часть – покрученникам. Если стоимость добытой продукции оценивалась в 1 500 руб. (средняя цифра для тех лет) и в артели было 10 чел., которым полагалось 15 паев (10 х 3 : 2 =15), то денежный эквивалент одного пая составлял 50 руб. Каждый работник, как правило, получал от одного до двух паев, новичок – три четверти пая, а кормщики, когда хозяин не отправлялся вместе с артелью на промысел, – два или два с половиной пая [7, с. 162]. Некоторые работники (2–3 чел. на судне) вместо пая предпочитали получать фиксированную плату – от 35 до 50 руб. за лето25. Такая оплата в целом соответствовала трем четвертям пая или одному паю при хорошем доходе артели, однако была более выгодной, если артель за сезон добыла меньше продукции. Так, если стоимость добытого оценивалась в 1 000 руб., то при таком же числе покрученников (10) и при таком же количестве паев (30) стоимость одного пая составляла бы всего 34 руб. Неизвестно, разрешалось ли неопытным промышленникам наниматься за фиксирован- ную плату, ведь в таком случае они могли заработать больше, чем их коллеги-новички, которым полагалось три четверти пая.
В работе «Артели Архангельской губернии» А. Я. Ефименко привела текст «Договора хозяина с новоземельскими промышленниками (из «Книги сделок и договоров Кузоменского Волостного Правления», 1869 г.)», который является одним из немногих письменных источников, содержащих информацию о работе промысловой артели во второй половине XIX в. В договоре указывалось, что все добытое на промысле будет поделено на 40 «паев или частей» между хозяином И. С. Заборщико-вым, кормщиком и 13 работниками (в тексте источника – «рядовыми»), при этом термин «уж(и)на» не упоминался в документе. Большинство паев (24¾ пая) полагалось хозяину, 2,5 пая – кормщику, по одному паю – десяти промышленникам, три четверти – двум и 1¼ пая – одному промышленнику. Хозяин, кормщик и промышленники были крестьянами Кемского уезда26.
И. С. Заборщиков обязывался предоставить кормщику и промышленникам «мореходное судно со всем такелажем, два промысловых карбаса с принадлежностями к ним, промысловые снаряды, рыболовные и звериные снасти, ружья, порох, свинец, хлеб» и провизию. Таким образом, получение хозяином большей части паев объяснялось тем, что он осуществлял подготовку к промыслу полностью за счет собственных средств. В то же время кормщик и промышленники обеспечивали себя одеждой и обувью самостоятельно27.
Из текста источника следует, что хозяин отправлялся на промысел вместе с промышленниками. Так, в договоре четко прописывалось, что кормщик и «рядовые» должны были «повиноваться» хозяину, «не делать ни малейшего ослушания и всячески заботиться об интересе, как Заборщи- кова, так и собственных своих, обращаясь между собой дружелюбно, честно и добросовестно», а также «общекупно заботиться о промышленности». В случае нарушения этих правил член артели был бы «подвергнут наказанию через законное правительство, судом по форме». Промышленники не несли ответственность за естественный износ снаряжения и орудий, кроме случаев их умышленной порчи или хищения28.
После завершения промыслового сезона по решению И. С. Заборщикова члены артели либо отправлялись продавать добычу, либо должны были сдать ее хозяину по существовавшим тогда ценам29.
К концу 1860-х гг., по отзывам поморов, промыслы на Новой Земле были очень рискованными ввиду нерегулярности появления зверя и трудности его добычи при сложной ледовой обстановке. Зависимость промысла от случайных причин приводила к убыткам промышленников, а при недостатке капиталов – к вынужденному прекращению промысла. По утверждению А. Я. Ефименко, среди хозяев возникла идея объединения всех, кто снаряжал суда для отправки на промысел, в большую артель с общим капиталом и разделом добычи [6, с. 35].
Считая, что объединенного капитала будет недостаточно для развития промыслов, хозяева положительно отнеслись к идее создания банка, который предоставлял бы единой артели ссуды после неудачных сезонов. Возвращать ссуды планировалось после успешных сезонов. Банк мог располагаться при казначействе в Кеми (75 верст от Сумского посада, главного центра пребывания промышленников западного берега), так как хозяевам было невыгодно брать ссуды в конторе Государственного банка в Архангельске из-за его удаленности и необходимости иметь там купцов-поручителей. При этом промышленники обращали внимание на опыт Норвегии, где «в каждом промыш- ленном городке (например, в Хаммерфесте или Тромсе)… есть банк, который много помогает… поддержке промыслов»30.
Возможность пользоваться ссудами избавила бы хозяев от невыгодных отношений с архангельскими купцами. Так, хозяева покупали у них хлеб в кредит (в счет результатов будущих промыслов), переплата составляла около 20 % от рыночной цены. При этом в случае удачного сезона прошлогодние долги погашались, а при неудачах, которые случались чаще, долг хозяев увеличивался. Иллюстрацией могут служить цены 1867 г., когда 1 пуд муки на ярмарке стоил до 1 руб. 15 коп. наличными, а при покупке ее в кредит переплата составляла от 350 до 1 000 руб. в год [6, с. 34]31.
Окупая высокие затраты на хлеб, хозяин предоставлял его артельщикам в обмен на продукцию промысла, дополнительно включая в стоимость хлеба как переплату, так и затраты на его перевозку из Архангельска к месту, куда возвращалась артель по завершении сезона. Будучи в «обязательных, кабальных отношениях», покрутчики теряли часть заработка, так как их добыча не поступала на свободный рынок, а сдавалась хозяину по установленной им цене [6, с. 34]. Это было связано с тем, что отсутствовала конкуренция, так как хозяев, имевших достаточно средств для снаряжения артелей, было немного. Итак, существование банка дало бы возможность покупать хлеб без процентов и направить освободившиеся средства на развитие промыслов32.
Только в 1894 г. был образован Комитет для помощи поморам Русского Севера, который в качестве одной из своих задач определял предоставление поморам кредитов на постройку судов.
Обсуждение
Основными отличиями при ведении промыслов уездами Архангельской губернии в изучаемый период были сроки отплы- тия к Новой Земле и Шпицбергену и начало добычи зверя.
Во второй половине XIX в. артельный промысел поморов на Шпицбергене был прекращен, но продолжал осуществляться на Новой Земле.
Снижение численности работников в артелях было обусловлено как экономическими возможностями организаторов промыслов (хозяев), так и уменьшением количества животных, которых можно было добыть.
Заключение
Итак, в XIX – начале XX в. существовала как нефиксированная (по ужинам или паям), так и фиксированная форма оплаты труда членов новоземельских и шпицбергенских зверобойных артелей. Количество паев превышало численность работников артели. Размер ужины (пая) определял хозяин, который до начала промысла обеспечивал всем необходимым как членов артели, получавших ужину, так и получавших фиксированную плату за труд. Наиболее распространенным (вплоть до начала XX в.) было деление добычи, когда хозяин получал две трети, а работники – одну треть. Вариант, когда добыча делилась поровну между хозяином и артелью, встречался реже.
Деятельность «Беломорской компании» (1803–1813 гг.) ознаменовала собой новый этап развития новоземельских и шпицбергенских артелей. Это выразилось в наибольшей численности команд промысловых судов по сравнению с предыдущими годами, а также в подробной документации, регламентирующей оплату труда и обеспечение работников всем необходимым. Необходимо отметить, что такая доля ужины, как «средни(и) пятки» (меньше, чем половина, но больше, чем треть ужины), характерна для оплаты труда только в «Беломорской компании». Выделение промышленникам денег на питание в Архангельске до отплытия корабля, возможно, преследовало цель «закрепить» работников за судном.
Список литературы Система оплаты труда в Новоземельских и Шпицбергенских зверобойных артелях в XIX - начале XX в.
- Аверьянов В. В. Русская артель. Невостребованный опыт: из прошлого в будущее? // Свободная мысль. - 2014. - № 3. - С. 107-124.
- Белобородова И. Н. Водопромысловые артели Европейского Севера России: к проблеме государственного регулирования самоорганизующихся сообществ (середина XIX - начало XX в.) // Управленческое консультирование. - 2014. - № 4. - С. 161-173.
- Бернштам Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства / под ред. К. Р. Чистова. - Л. : Наука, 1978. - 176 с.
- Бэр К. М. Об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности (окончание) // Архангельские губернские ведомости. - 1846. - № 43. - Отдел второй. Часть неофициальная. - С. 657-660.
- Данилевский Н. Я. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях. Общие отчеты и предположения. С картами Белого и Северного морей // Исследования о состоянии рыболовства в России. - Т. VI. - СПб. : Тип. В. Безобразова и комп., 1862. - 257 с.
- Ефименко А. Артели Архангельской губернии // Сборник материалов об артелях в России. -Вып. 1. - СПб. : № 2 тип. Майкова, 1873. - С. 1-76.
- Ефименко П. С. Народные юридические обычаи крестьян Архангельской губернии. - М., 2009. - 272 с.
- Житков Б. М. Новая Земля. - М., 1903. - 80 с.
- Максимов С. В. Год на Севере. - Архангельск, 1984. - 605 с.
- Минаева Т. С. Поморские промыслы на Шпицбергене в конце XVIII - первой половине XIX в. // Экономическая история. - 2013. - № 1. - С. 6-13.
- Никонов С. А. Зверобойный промысел Соловецкого монастыря на архипелаге Шпицберген в конце 1730-х гг. // Полярные чтения на ледоколе «Красин» - 2018. Технологии и техника в истории освоения Арктики. - М. : Паулсен, 2019 - С. 12-22.
- Никонов С. А. Социальная организация монастырского новоземельского промысла в XVII -начале XVIII в. // Российская история. - 2017. - № 5. - С. 127-139.
- ОзерецковскийН. Описание моржоваго промысла // Архангельские губернские ведомости. -1846. - № 38. - Отдел второй. Часть неофициальная. - С. 571-573.
- Озерецковский Н. Описание моржоваго промысла (продолжение) // Архангельские губернские ведомости. - 1846. - № 39. - Отдел второй. Часть неофициальная. - С. 591-594.
- Озерецковский Н. Описание моржового промысла (Продолжение) // Архангельские губернские ведомости. - 1846. - № 40. - Отдел второй. Часть неофициальная. - С. 604-607.
- Avango D., Hacquebord L., Wrakberg U. Industrial extraction of Arctic natural resources since the sixteenth century: technoscience and geo-economics in the history of northern whaling and mining // Journal of Historical Geography. - 2014. - Vol. 44. - P. 15-30. DOI: https://doi. org/10.1016/j.jhg.2014.01.001.
- Conway M. No Man's Land. A History of Spitsbergen from Its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the Country. - Oslo, 1995. - 377 p.
- Jasinski M. E. Russian Hunters on Svalbard and the Polar Winter [Electronic resource] // Arctic. - 1991. - Vol. 44. - No 2. - P. 156-162. - URL: https://www.unis.no/wp-content/ uploads/2016/01/Arctic_vol44_no2_Jasinski.pdf.