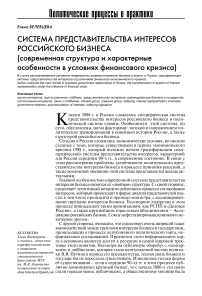Система представительства интересов российского бизнеса (современная структура и характерные особенности в условиях финансового кризиса)
Автор: Белевцева Елена Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные тенденции во взаимоотношениях бизнеса и власти в России, трансформация системы представительства интересов под влиянием финансово-экономического кризиса.
Группа интересов, группа давления, лоббизм, представительство интересов, взаимодействие бизнеса и государства, согласование интересов, закон о лоббизме
Короткий адрес: https://sciup.org/170164634
IDR: 170164634
Текст научной статьи Система представительства интересов российского бизнеса (современная структура и характерные особенности в условиях финансового кризиса)
К осени 2008 г. в России сложилась специфическая система представительства интересов российского бизнеса в политической системе страны. Особенности этой системы, по сути, обусловлены двумя факторами: логикой и направлением политических трансформаций в новейшей истории России, а также структурой российского бизнеса.
Сегодня в России сложились экономические условия, во многом сходные с теми, которые существовали в период экономического кризиса 1998 г., который положил начало трансформации «олигархической» системы представительства интересов, характерной для России середины 90-х гг., в современное состояние. В связи с этим рассмотрение проблемы устойчивости политического представительства интересов бизнеса в процессе принятия решений, а также возможной эволюции этой системы представляется весьма актуальным.
Главной особенностью современной системы представительства интересов бизнеса является её «двойная» структура. С одной стороны, существует легитимный механизм публичного процесса согласования интересов, который происходит в форме диалога представителей вла- сти, в том числе президента и премьер-министра, с ассоциированными группами интересов бизнеса. Бесспорное лидерство в этом процессе принадлежит таким организациям, как РСПП и «Деловая Россия», а также крупнейшим отраслевым объединениям – Ассоциации российских банков, Союзу нефтегазопромышленников и не- которым другим.
БЕЛЕВЦЕВА
С другой стороны, очевидно, что существует очень широкий пласт взаимодействий между группами интересов бизнеса и государством, происходящих в процессе непубличного политического торга, неформальных согласований. Предметом этого неформального торга в основном является доступ к ресурсам в самой широкой трактовке этого понятия. Несмотря на публичную «борьбу» с «олигархами» и лоббистами, которая стала неотъемлемой частью политики В.В. Путина в период его президентства, тесная связь бизнеса и государства не перестала существовать. Изменилась только форма её существования – если в середине 90-хх гг. в этом процессе публично доминировал крупный бизнес, то с начала 2000-х эти связи стали гораздо менее публичными, а общественному мнению была транслирована мысль о сильных и независимых институтах государственной власти и полном отказе бизнеса от каких бы то ни было политических амбиций.
По сути же масштабы сращивания бизнеса и государства на современном этапе развития не меньше, чем в середине 90-х гг. Среди источников этого явления – постоянный «обмен кадрами» между бизнесом и органами государственной власти, возможности для чиновничества использовать административные ресурсы для реализации собственных бизнес-интере-сов, сильная зависимость экономики государства от крупных компаний, в первую очередь экспортёров сырья.
Таким образом, зависимость государст-ваот групп интересов крупного бизнеса на системном уровне обусловлена структурой российского бизнеса и дополняется зависимостью государственных чиновников и бизнесменов на уровне межличностных взаимодействий. Именно это усугубляет негативный эффект от существования подобных взаимодействий.
В результате воздействия этих факторов политический процесс имеет двойную структуру. С одной стороны, это легитимный процесс согласования и приведения к балансу интересов различных социальных групп. Причём если посмотреть на публичное поле политики, то в процессе согласования главенствующую и определяющую роль занимает государство, которое выступает в качестве доминирующего института, контролирующего и направляющего политические дискуссии и процессы согласования.
С другой стороны, чиновничество, которое призвано реализовывать на практике функции согласования интересов и приведения их к балансу, выступая в качестве независимого арбитра, по сути представляют собой объединение различных групп бизнес-интересов. Складывается ситуация, когда государственные чиновники сами являются членами групп интересов и встроенных групп давления бизнеса, лоббируя решения, выгодные узкому кругу людей. При этом легитимные институциональные механизмы согласования интересов – выборы, политические партии, свободное волеизъявление граждан являются лишь ширмой и декорацией к обширному теневому согласованию.
Такой вид системы представительства интересов существовал к сентябрю 2008 г.
Дополнительным фактором её устойчивости служило то, что на первом этапе развития мирового финансового кризиса Россия оставалась «островом стабильности», что убеждало чиновников и руководство страны в адекватности существовавшей системы политического согласования, эффективности той специфической формы политической и экономической конкуренции, характерной для нашего общества.
Как трансформировалась система представительства интересов под влиянием финансового кризиса? На сегодняшний день можно отметить, что вопреки вполне логичным ожиданиям существенных трансформаций не произошло. Более того, существующая система в определённой степени усугубляет негативные тенденции в экономике, тормозя рыночные механизмы выхода из кризисной ситуации.
Для современной «кризисной» системы представительства интересов характерны несколько основных тенденций.
Обострение конкурентной борьбы групп давления. На протяжении нескольких лет в России проводился устойчивый курс на наращивание бюджетных расходов. В публичном поле эта тенденция проявлялась, в первую очередь, в виде расширения социальных программ. Национальные проекты в области здравоохранения, образования, доступного жилья, работа над ослаблением налогового бремени для малого бизнеса – начало реализации этих и многих других проектов стало возможным, благодаря постоянному притоку в страну иностранных инвестиций, высоким ценам на сырьё и энергоносители на мировых рынках, экономическому росту внутри страны. В тоже время в процессе неформальных взаимодействий за пределами публичного поля политики имела место конкурентная борьба лоббистов групп давления крупного бизнеса за доступ к своей доле бюджетных ресурсов. Следует отметить, что низкий уровень развития гражданского общества в России приводит к тому, что в стране фактически не существуют организованные группы интересов, обладающие соответствующими ресурсами для создания групп давления и лоббирования интересов социальной направленности. Расширение социальных программ не было следствием давления соответствующих групп на процесс принятия политических решений. Инициатива в этом процессе принадлежала государству, и политика социального патернализма стала неотъемлемой частью популистской риторики, характерной для политической жизни последних лет.
При этом, благодаря постоянно растущим ценам на нефть и, как следствие, возрастающим доходам бюджета, государство имело возможность сочетать политику социального и промышленного патернализма, т.е. одновременно с решением социальных задач удовлетворять интересы крупного бизнеса, заинтересованного, в первую очередь, в установлении таких условий, которые позволяют извлекать сверхприбыли при жёстком ограничении конкуренции, в том числе со стороны иностранных производителей, снизить налоговое бремя, создать другие максимально благоприятствующие условия работы, что, в конечном счёте, будет способствовать обогащению узкой группы собственников. Наиболее ярким примером является лоббистская деятельность групп давления нефтегазового сектора, регулярно добивающихся существенных налоговых льгот и ограничения иностранным конкурентам доступа на российский рынок.
Следует отметить, что вследствие проводимой популистской политики государства в стране не возникала социальная напряжённость и недовольство доминирующим положением крупного бизнеса. Благодаря большому профициту бюджета при возрастающих экспортных ценах на сырьё и энергоносители, конкуренция социальной сферы и крупного бизнеса не возникала, а разнонаправленные интересы крупного бизнеса приводились к балансу.
С наступлением кризиса ресурсы стали ограниченными, в первую очередь это касается бюджетного финансирования. В результате произошла активизация всех групп интересов, которые стали создавать очень мощные группы давления для обеспечения доступа к бюджетной государственной поддержке. И поскольку группы давления крупного бизнеса обладают примерно равными ресурсами влияния, то обострение конкуренции привело в том числе к тому, что группы интересов стали активно использовать такой метод лоббизма, как открытое (по форме) и опосредованное (по сути) давление на точки доступа посредством мобилизации общественного мнения. Сегодня деловая пресса представ- ляет собой арену мощной борьбы за ресурсы, на которой встречаются полярные группы и противоборствующие мнения. И это смещение процесса согласования в сторону публичности можно также назвать одним из характерных признаков кризисной системы представительства интересов. Безусловно, это лишь «верхушка айсберга», и реальный процесс согласований между бизнесом и властью по-прежнему преимущественно не публичен, но интенсификация апелляций к общественному мнению очевидна.
В результате обострилась борьба между двумя направлениями политического процесса. С одной стороны, государству необходимо продолжать выделение бюджетных средств на социальные проекты (для поддержания иллюзии стабильности в обществе и сдерживания возможных проявлений социального недовольства), а также выделять средства на поддержку незащищённых слоёв населения и предпринимать меры по поддержанию потребительского спроса, без чего выход из кризиса однозначно затруднён. С другой стороны, государство и вынуждено уступать воздействию различных групп давления, т.к., осознавая свою зависимость от налоговых поступлений от деятельности крупного бизнеса, государство не может игнорировать его требования. Таким образом, конкуренция между социальным и промышленным патернализмом обостряется в несколько раз по сравнению с периодом экономической стабильности. Ситуация усугубляется личностными факторами, а именно личными интересами чиновников в бизнесе.
Изменение предмета лоббизма. Основными предметами лоббизма в России в период экономического роста стали: доступ к ресурсам (получение права на освоение месторождений, приватизация), ограничение конкуренции (льготы, преференции для собственного бизнеса, барьеры для конкурентов по участию в «открытых» тендерах, аукционах), налоговые послабления.
Кризис обозначил новый предмет лоббизма, за который идёт ожесточённая борьба групп давления, – государственная поддержка. Период бурного экономического роста в России, как, впрочем, и в развитых странах, был обеспечен заёмными средствами – банковскими кредитами, заимствованиями на рынках публичного долга, IPO. Кредиты и займы многократно рефинансировались, организаторы выпусков облигаций всеми способами камуфлировали реальную долговую нагрузку эмитентов, залоги не перекрывали существующие долги. Многие эмитенты выходили на рынок публичного долга, заранее зная, что фактически заёмные средства никогда не будут возвращены инвесторам – текущие долги будут просто перекрыты новым займом, и так до бесконечности. В результате, когда коллапс финансовых рынков и кризис банковской ликвидности сократили практически до нуля возможности рефинансирования займов, большое количество компаний оказались на грани банкротства. В этой ситуации Россия последовала примеру западных стран и направила существенную часть накопленных резервов на поддержку экономической сферы.
На сегодняшний момент существует несколько каналов предоставления государственной поддержки. По источнику возникновения эта каналы можно разделить на собственно инициированные государством и инициированные группами давления бизнеса.
В целом, государственная поддержка распределяется выборочно и критериями её выделения, вопреки официальной риторике, становится не стратегическая важность адресата получения помощи для экономики в целом, а эффективность группы давления соответствующего субъекта. Если посмотреть на адресатов государственной поддержки по списку стратегических предприятий, то большинство компаний, получивших реальные денежные средства, – предприятия крупного бизнеса. Среди них, например, ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», кредиты которым были выделены на пополнение оборотных средств и рефинансирование внешних займов. АФК «Система» получила кредит по программе государственной поддержки на покупку предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса. Наличие широких лоббистских ресурсов у этих компаний очевидно – их представители, так же, как и руководство других крупнейших компаний – адресатов государственной поддержки, регулярно попадают в списки ведущих лоббистов, публикуемых Независимой газетой1. При этом более мелкие компании, существенно ограниченные в оборотных средствах и не имеющие ресурсов влияния на процесс принятия политических решений, в списки госпомощи не попали и вынуждены брать кредиты под фактически неподъёмные проценты. Это не просто тормозит развитие малого и среднего бизнеса и системы свободной конкуренции, но фактически разрушает эту систему.
На встрече с предпринимателями 26 мая 2009 г. Д. Медведев подтвердил, что государство будет и дальше поддерживать «стратегические» предприятия, что, по сути, означает дальнейшее обострение конкурентной борьбы групп давления российского бизнеса за доступ к бюджетным ресурсам.
Усиление сращивания бизнеса и власти. Расширение ресурсов влияния государственных компаний. Кризисная ситуация создала, по сути, уникальные возможности для усиления тенденции сращивания бизнеса и власти. Посредством публичного механизма государственной поддержки и в процессах непубличных согласований уже происходит перераспределение влияния в экономической сфере. Выигрывает от этого процесса узкая группа собственников, приближенных к власти, группы давления государственных компаний, а также чиновничество, контролирующее ресурсы. В результате полупубличного процесса «спасения» предприятий происходит смена собственников – часть переходит под контроль государства, часть – под контроль приближенной экономической элиты.
Если рассматривать группы интересов государственного бизнеса, то они оказались в более выигрышном положении, чем группы давления частного бизнеса. Близость к государству, широкие административные ресурсы влияния и доступ к государственной поддержке позволяют этим группам быть динамичными в организации эффективных групп влияния для оказания лоббистского воздействия.
Также происходит процесс усиления влияния государственных банков. До 1998 г. основной бизнес-единицей в России были финансово-промышленные группы. Промышленные предприятия были сконцентрированы вокруг контролирующих их финансовых институтов. После краха банковской системы в 1998 г. произошёл процесс диверсификации интересов, и тесное сращивание банковского и про- мышленного капитала стало менее распространено. Однако сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию. Осенью четыре государственных банка – ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк получили бюджетные средства, часть которых была направлена на кредитование компаний реального сектора. Основная часть кредитов была выдана на год или полтора, и в случае дефолта заёмщиков банки уже в ближайшее время смогут стать крупными держателями интересных промышленных активов, произойдёт очередное перераспределение сфер влияния и изменение структуры российского бизнеса. Можно с определённой долей уверенности утверждать, что поскольку кредиты выданы государственными банками, то по вопросу пролонгации сроков кредитных договоров возникнет большая лоббистская активность групп давления. Активы групп, не обладающих соответствующими ресурсами влияния, перейдут в собственность банков и затем могут быть либо реприватизированы, либо проданы другим собственникам. Весьма вероятно, что контроль над этими активами получат наиболее приближенные к государству и чиновничеству группы.
Активизация групп давления банковского сектора в целом. В целом, с осени 2008 г. группа интересов банковского сектора очень активно влияет на процесс принятия политических решений. Получение финансовой поддержки от государства и способность воздействовать на ситуацию в экономике через кредитные инструменты обусловили активизацию этой группы. Конечно, банковское лобби всегда обладало мощными ресурсами влияния на политический процесс, а Ассоциация российских банков является одной из наиболее успешных в плане лоббистского потенциала ассоциированных групп интересов. Однако в кризисной ситуации банки являются одной из наиболее динамичных групп интересов. Хотя в вопросе влияния на процесс принятия решений и в этой сфере лидерство принадлежит государственным банкам.
Первое решение, которого удалось добиться банковскому сектору, – это, как уже говорилось выше, получение государственной поддержки. В сентябре 2008 г. 265 млрд руб. из государственного бюджета было распределено между Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.
Второе решение, которое было принято в интересах групп банковского сектора, – изменение принципов оценки устойчивости кредитных организаций. В частности, в сторону послабления были изменены критерии оценки качества кредитов, что позволяет банкам занижать официальные данные по объёму плохих кредитов на балансах и не уменьшать рабочий капитал путём создания дополнительных резервов. При этом качество кредитных портфелей становится основной темой спекуляций в риторике крупнейших банкиров с целью давления на государство для выделения дополнительных средств на поддержку устойчивости банковской системы. Так, согласно официальным банным ЦБ, объём плохих кредитов на банковских балансах не превышает 3% от общего кредитного портфеля. Банкиры же утверждают, что реальный объём просрочки сегодня уже превысил 10%, а к концу 2009 г. может достигнуть критических 20% от объёма портфеля. Эта риторика происходит в плоскости публичных политических согласований и оказывает колоссальное давление на общественное мнение.
Кроме того, ассоциированная группа интересов банковского сектора – Ассоциация российских банков – лоббирует принятие поправок в Гражданский кодекс с целью введения в стране понятия «безотзывных» вкладов, что, согласно аргументам групп давления, создаст дополнительный запас устойчивости против оттока розничных вкладчиков.
Интенсификация и изменение содержания обратного воздействия государства на группы интересов бизнеса. В условиях кризиса произошла и интенсификация обратного воздействия государства на группы интересов бизнеса. Конечно, это воздействие было всегда и институты государственной власти на протяжении последних нескольких лет постоянно демонстрировали своё лидерство в процессе взаимодействия с бизнесом. И конечно, в период кризиса не могло не произойти усиление государственного регулирования экономики. Это нормальный, абсолютно закономерный процесс, характерный для всех стран и обусловленный логикой развития экономических циклов. Однако когда мы говорим об усилении обратного воздействия государства на группы интересов бизнеса, мы подразумеваем такое воздействие государства на бизнес, которое заставляет компании отказываться от рыночных механизмов принятия решений в экономике и подменять их навязанными извне.
Примером может служить требование правительства к банкам наращивать объёмы кредитования реального сектора темпами, составляющими не менее 2% от объёма кредитного портфеля в месяц, и по ставке не превышающего ставку рефинансирования (+3%). По сути, это означает снижение требований к качеству заёмщика и, как следствие, увеличение рисков и доли плохих кредитов в портфеле. В результате имеет место ситуация, когда неэффективная и коррупционная бюрократия подменяет собой нормальные рыночные механизмы, такие как банкротство и кредитование. Этот процесс сопровождается мощной PR-кампанией и социальнопопулистскими заявлениями, что обеспечивает очень мощную социальную поддержку, хотя, по сути, затрудняет выход страны из кризиса.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате действия существующего механизма представительства интересов антикризисные программы и действия оказываются неэффективными, т.к. направлены на поддержание существующего status quo в системе с целью не допустить перераспределения в структуре групп влияния, а также на поддержку госкорпораций, государственного крупного бизнеса и наиболее влиятельного крупного частного бизнеса. При этом вопрос эффективности этих институтов a priori не ставится. В результате экономическая эффективность и свободная конкуренция в экономике подменяется конкуренцией лоббистских возможностей, что тормозит естественные процессы реабилитации в экономической системе.
В перспективе возможны несколько сценариев развития ситуации. Конечно, было бы упрощением сказать, что в случае резкого коренного изменения принципов и связей взаимодействия групп давления российского бизнеса и государства произойдёт столь же резкий и бурный экономический рост. Очевидно, что экономическое восстановление зависит от целого комплекса факторов, в том числе и от темпов восстановления мировой финансовой системы. Однако можно с уверенностью утверждать, что если система представительства интересов бизнеса не претерпит позитивных сдвигов, то даже в слу- чае быстрой реабилитации мировой финансово-экономической системы восстановление российской экономики растянется на довольно длительный период.
В то же время при нынешнем низком уровне развития гражданского общества, отсутствии независимой активности групп интересов среднего и малого бизнеса, которая на текущий момент носит исключительно мобилизационный, навязанный сверху характер, наиболее вероятен всё же выбор пассивного сценария в отношении системы представительства. В этом случае политическая элита будет продолжать поддерживать status quo в системе представительства, распределяя государственные ресурсы не по принципу реальной необходимости, а в результате конкуренции лоббистских возможностей. Как следствие, произойдёт передел собственности на активы, владельцы которых ограничены в лоббистских ресурсах, а в выигрыше окажется узкая группа сращенной политической и экономической элиты. Вслед за восстановлением мировой экономики, которое рано или поздно произойдет, повысятся и цены на энергоносители до такого комфортного для России уровня, при котором станет вновь возможным экономический рост, и финансово-экономическая система вновь придёт в стабильность. Однако при таком сценарии Россия потеряет возможность воспользоваться мировой финансовой нестабильностью для занятия более влиятельного положения на мировой арене, более того, страна имеет все шансы потерять место в четвёрке инвестиционно привлекательных стран BRIC.
Интересно отметить, что именно на фоне развития финансового кризиса возобновилась дискуссия вокруг законодательного регулирования лоббистской деятельности и необходимости принятия закона о лоббизме как реального механизма ограничения воздействия групп давления на политический процесс.
На наш взгляд, принятие закона будет способствовать повышению прозрачности политического процесса. В то же время при текущем крайне высоком уровне сращивания интересов бизнес-групп и политической элиты принятие закона не будет являться универсальным механизмом перевода политического процесса полностью в публичное поле.