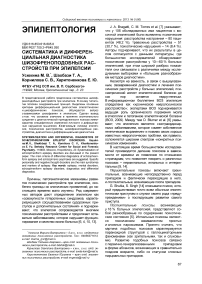Систематика и дифференциальная диагностика шизофреноподобных расстройств при эпилепсии
Автор: Усюкина Марина Валерьевна, Шахбази Татьяна Азеровна, Корнилова Светлана Викторовна, Харитоненкова Евгения Юрьевна
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Эпилептология
Статья в выпуске: 5 (80), 2013 года.
Бесплатный доступ
В представленной работе предложена систематика шизофреноподобных расстройств при эпилепсии. В основу типологии положен синдромальный принцип. Выделены основные критерии дифференциальной диагностики эпилептических и шизофренических психозов; обсуждается вопрос о взаимосвязи шизофрении и эпилепсии. Сделан вывод о том, что основное значение в принятии окончательного суждения о диагностической принадлежности психоза имеют характер специфических изменений личности и дефицитарные нарушения мышления.
Эпилепсия, психические расстройства, шизофреноподобные расстройства, диагностика и дифференциальная диагностика
Короткий адрес: https://sciup.org/14295676
IDR: 14295676 | УДК: 616.853:616.895.8
Текст научной статьи Систематика и дифференциальная диагностика шизофреноподобных расстройств при эпилепсии
ФГБУ «ГНЦ ССП им. В. П. Сербского»
119992, Москва, Кропоткинский пер., д. 23
В представленной работе предложена систематика шизоф-реноподобных расстройств при эпилепсии. В основу типологии положен синдромальный принцип. Выделены основные критерии дифференциальной диагностики эпилептических и шизофренических психозов; обсуждается вопрос о взаимосвязи шизофрении и эпилепсии. Сделан вывод о том, что основное значение в принятии окончательного суждения о диагностической принадлежности психоза имеют характер специфических изменений личности и дефицитар-ные нарушения мышления. Клю чевые слова : эпилепсия, психические расстройства, шизофреноподобные расстройства, диагностика и дифференциальная диагностика.
SYSTEMATIZATION AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF SCHIZOPHRENIFORM EPILEPSY DISORDERS. Usyuki-na M. V., Shakhbazi T. A., Kornilova С. V., Kharitonenko-va E. Yu. Serbsky Research Center for Social and Forensic Psychiatry. 119992, Moscow, Kropotkinsky, 23 . Systematization of schizophreniform epilepsy disorders are discussed in the present paper. The main criteria of differential diagnostics of schizophreniform epilepsy and schizophrenic psychoses are suggested. Specific personality and negative thought disorders are the main syndromes and markers of epilepsy. Key words : epilepsy, mental disorders, schizophreniform epilepsy disorders, diagnostics and differential diagnostics.
Причины, патогенетические механизмы развития психических расстройств при эпилепсии, особенно границы их клинических проявлений, до настоящего времени мало изучены. Ряд современных авторов дают определение эпилепсии как «совокупности гетерогенных синдромов, характеризующихся сосуществованием судорожных приступов и дополнительных состояний» и подчеркивают, что эпилепсия сопровождается многими психическими расстройствами и продолжает оставаться заболеванием, которое нарушает функционирование и качество жизни больных [6, 4, 10, 13].
J. A. Bragatti, C. M. Torres et al. [7] указывают, что у 106 обследованных ими пациентов с височной эпилепсией были выявлены психические нарушения: расстройства настроения – 80 пациентов (48,2 %), тревожные расстройства – 51 (30,7 %), психотические нарушения – 14 (8,4 %). Авторы подчеркивают, что их результаты в целом согласуются с данными литературы, где большинство исследователей обнаруживают психические расстройства у 10—60 % больных эпилепсией, при этом широкий разброс показателя они связывали с различиями между исследуемыми выборками и «большим разнообразием методов диагностики».
Несмотря на важность, в связи с вышеуказанным, своевременной диагностики и лечения психических расстройств у больных эпилепсией, психиатрический аспект эпилептической болезни до сих пор остается недоучтенным. В информационном бюллетене ВОЗ эпилепсия определена как «хроническое неврологическое расстройство»; экспертами ВОЗ подчеркивается ведущая роль органического поражения мозга в этиологии и патогенезе эпилептической болезни (ВОЗ, 2009). Между тем D. Blumer et al. [6] указывают, что эпилепсия является «экстраординарным» заболеванием, которое «имеет собственное генетическое выражение» и помимо своих хорошо известных неврологических проблем, как правило, осложняется широким спектром «конкретных психических изменений».
В настоящее время большинством исследователей производится деление психозов в зависимости от времени их появления по отношению к припадкам, что позволяет говорить о различных психозах – перииктальных, иктальных и интериктальных [9, 14].
Перииктальные психозы включают преик-тальные , возникающие непосредственно перед припадком и фактически переходящие в него, и постиктальные, возникающие после припадков.
G. Shukla, S. Singh [14] описывали психоз, который предшествовал почти всем обычным эпилептическим приступам и служил своего рода «предупреждением» о последующем развитии самого приступа.
Постиктальные психозы , возникающие у 18 % больных эпилепсией, представляют собой разнообразные по содержанию психотические состояния [5]. Иктальные психозы являются психическим эквивалентом простых и сложных пароксизмов. Принято считать, что картина подобных психозов характеризуется параноидной структурой с галлюцинаторными феноменами (как зрительными, так и слуховыми). Развитие подобных психозов связано с первично-генерализованными припадками в форме абсансов, возникающих в сравнительно позднем возрасте, либо со статусом сложных парциальных припадков.
Интериктальные психозы возникают на фоне ясного сознания, спустя длительное время после прекращения припадков. В клинической картине подобных психозов при эпилепсии на первый план выступают симптомы, характерные для шизофренического процесса, что вызывает большие диагностические проблемы.
C конца ХIХ века непрерывно обсуждается вопрос о взаимосвязи шизофрении и эпилепсии, создающей особые трудности диагностики психозов при эпилепсии. Одни исследователи обозначают эти состояния как «эпилептическая шизофрения», другие – как «психотическая эпилепсия», «эпилептическое шизофреническое расстройство». Для клинической картины так называемых интериктальных психозов характерны явления воздействия и открытости мыслей, слуховые галлюцинации, идеи преследования и воздействия, признаки бредового восприятия, что при отсутствии припадков позволило бы диагностировать параноидную форму шизофрении. Не существует ни одного симптома или синдрома шизофрении, который не мог бы встречаться у больных эпилепсией [12].
При эпилептических психозах, также как при шизофрении, отмечаются в первую очередь позитивные синдромы: бредовые (паранойяльные, галлюцинаторно-параноидные, парафрен-ные), галлюцинаторные, кататонические [5, 12].
В МКБ-10 в главе Y («Психические и поведенческие расстройства») упоминаются «ши-зофреноподобный психоз при эпилепсии» (F06.2) и «эпилептический психоз» (F06.8). В адаптированном варианте МКБ-10 для использования в Российской Федерации (1998) сделана попытка более развернуто представить свойственные эпилепсии психопатологические синдромы, в частности шизофренопо-добные расстройства.
В настоящее время некоторые исследователи в качестве проявлений эпилептических энцефалопатий рассматривают эпилептические психозы, при этом описывается широкий спектр психических нарушений и психопатологических синдромов, которые неправильно диагностируются. Чаще всего встречаются диагнозы «шизофрения», «шизоаффективное расстройство», «аффективное расстройство», «тревожно-фобическое расстройство», «расстройство личности и поведения», «умственная отсталость» [2].
Все сказанное говорит о трудностях диагностики эпилептических психозов и предопределяет цель настоящего исследования, которая заключается в систематике и дифференциальной диагностике шизофреноподобных психозов при эпилепсии.
Материал и методы. Было обследовано 160 больных эпилепсией мужчин в возрасте 18—50 лет (89,5 %) с длительностью заболевания от 6 до 20 лет.
В работе использовались критерии Международной классификации эпилепсии (1989), эпилептических припадков (1981), диагностические критерии МКБ-10: разделы G («Болезни нервной системы») и F («Психические и поведенческие расстройства»).
Результаты и обсуждение. 41 обследуемый (53 %) хотя бы раз в жизни перенес психотические расстройства, в трети случаев – транзитор-но, 31 % обследуемых достоверно чаще страдали хроническими эпилептическими психозами. Для больных эпилепсией наименее характерны изолированные паранойяльные и парафренные психозы, наиболее часто – смешанные галлюцинаторно-параноидные и аффективно-бредовые психотические нарушения. Среди нарушений мышления преобладали разноплановость, актуализация несущественных и второстепенных свойств предметов, резонерские нарушения.
Согласно МКБ-10 систематика эпилептических психозов производилась по синдромаль-ной структуре. При наличии эпилептического психоза в форме галлюциноза – F06.02 (12,5 %) отмечались яркие зрительные, слуховые галлюцинации в виде окликов по имени, непонятного гула, звуков, голосов, нередко осуждающего и императивного характера; реже – обонятельные, тактильные галлюцинации. Отличительной особенностью галлюцинаций является их конкретный, однообразный характер; в ряде случаев выявлялась бредовая трактовка галлюцинаций при отсутствии доминирующих бредовых расстройств.
Для диагностики бредового (шизофренопо-добного) расстройства в связи с эпилепсией (F06.12) необходимо наличие бреда, ясного сознания, в единичных случаях – галлюцинаций.
При наличии в 12,2 % случаев паранойяль-ныго психоза отмечались несистематизированные, монотематические, обыденные, конкретные бредовые идеи (ревности, отношения, преследования, ущерба, ипохондрического содержания). Наиболее отчетливо паранойяльный синдром формировался при наличии у больных таких специфических эпилептических изменений личности, как недоверчивость, эгоцентризм, тревожность, ипохондричность.
При галлюцинаторно-параноидном психозе (16,8 %) выявлялись конкретные по содержанию, наглядные, однообразные, отрывочные бредовые идеи преследования, воздействия, величия с параноидным восприятием и интерпретацией окружающего; истинные зрительные и слуховые галлюцинации, иногда религиозного содержания. Психотическая симптоматика характеризовалась яркостью, чувственной окрашенностью.
Парафренный (8,2 %) психоз подразумевал наличие псевдогаллюцинаций, симптома открытости мыслей и других явлений психического автоматизма с чувством овладения. Харак- терным признаком являлись грандиозность бредовых идей, ригидность мыслительных процессов, лабильность эмоциональных реакций. Часто в структуру бреда включались мифологические, религиозные, мессианские мотивы, мотивирующие поведение больного.
По данным В. В. Калинина [3], доминирующее в психиатрии на протяжении многих лет представление о том, что эпилептические психозы отличает от психозов при шизофрении больший удельный вес религиозных переживаний, подверглось пересмотру. Однако этот признак сохраняет свое ориентирующее значение и может учитываться в совокупности с другими как дифференцирующий эпилептические психозы.
При депрессивном психотическом расстройстве (20,3 % случаев) в связи с эпилепсией (F06.322) отмечались суточные колебания настроения с усилением тревожно-депрессивного настроения утром, неусидчивость, двигательное беспокойство на фоне выраженной астении; периоды пониженного настроения, сопровождающиеся тоской, суицидальными мыслями, идеями самообвинения, малоценности.
При диагностике психотического маниакального расстройства (3,5 %) в связи с эпилепсией ( F06.302) констатировались периоды «подъема, повышенной энергии, прилива сил», эйфоричность; сочетание повышенной активности с раздражительностью, брутальностью; у ряда больных выявлялись непреодолимые влечения к алкоголю, бродяжничеству, поджогам, половым эксцессам.
Характерной отличительной особенностью эпилептических аффективных психозов являлось значительное присутствие дисфорических компонентов в структуре как депрессивных, так и маниакальных психозов.
Кататонические психозы (2,5 %) при эпилепсии (F06.12) возникают относительно редко. В клинической картине преобладали субступо-розные состояния с негативизмом или пассивной подчиняемостью, субступор с мутизмом, постоянным стереотипным бормотанием или импульсивным возбуждением.
Наиболее значимыми для установления эпилептической природы психических нарушений являются отмечающиеся при настоящем обследовании у больных эпилепсией специфические изменения личности и дефицитарные нарушения мышления. Изменения личности проявляются двумя полюсами расстройств – эксплозивно-эпилептоидным с паранойяльными чертами (аффективная взрывчатость, импульсивность, злопамятность, склонность к гневливо-злобным реакциям, подозрительность, недовольство окружающим) и дефензивным с преимущественно глишроидными (педантичность, аккуратность, следование традиционным взглядам, религиозность) и психастеническими
(тревожность, ипохондричность, сенситивность, мнительность) проявлениями.
Нарушения мышления характеризуются инертностью, тугоподвижностью, ригидностью, замедлением темпа мыслительных процессов, преобладанием эгоцентрического, персевера-тивного, наглядно-образного мышления.
С начала ХХ в. большинством психиатров рассматривались дифференциально-диагностические признаки или отличительные особенности психозов при эпилепсии.
Ряд авторов считают, что основное, что отличает больного шизофренией от больного эпилепсией, – это различие в структуре наступающих у больных по ходу болезни изменений личности, снижения интеллекта, нарушения мышления, что необходимо учитывать при диагностике эпилептических психозов [1, 3]. Опираясь при дифференциальной диагностике ши-зофреноподобных психозов на изменения личности, свойственные эпилептической болезни, подчеркивается сравнительно небольшая озабоченность больных эпилепсией бредовыми переживаниями, их способность «дистанцировать» себя от бредовых идей.
Рассматривая возможность взаимоотношения шизофрении и эпилепсии, А. И. Болдырев [1] пришел к выводу, что доказательством симптоматического характера шизофреноподобных психозов при эпилепсии представляется тот факт, что в настоящее время при лечении больных эпилепсией можно добиться существенной или даже полной редукции шизофрено-подобной симптоматики, после чего в клинической картине на первый план выступают изменения личности и снижение интеллекта, характерные для эпилепсии, а также нарушения мышления. Это, как считает автор, позволяет говорить о том, что психозы с шизофренопо-добной симптоматикой у больных эпилепсией – проявления основного заболевания и нет оснований рассматривать их как комбинацию эпилепсии с шизофренией.
I. C. Kairalla et al. [11] сравнивали психозы при эпилепсии (28) и шизофрении (47) и отмечали, что у больных эпилепсией отмечались явления персеверации (застревания в речи, мышлении, моторике), в то время как у больных шизофренией – специфические шизофренические нарушения мышления. Y. Tadokoro et al. [15] выявили более высокие показатели по шкале негативных расстройств у больных шизофренией по сравнению с пациентами с интериктальными психозами при эпилепсии. B. de Toffol [8] указывает, что для эпилептических психозов характерна специфическая феноменология, в которой потенциальные патофизиологические механизмы тесно связаны с природой эпилептической болезни.
Результаты проведенного клиникопсихопатологического исследования свидетельствуют о том, что особенности продуктивных психопатологических расстройств при эпилепсии приобретают большую дифференциальнодиагностическую значимость в процедуре отграничения их от шизофрении . Для эпилепсии характерны простые, истинные галлюцинаций, чаще зрительные; для шизофрении – сложные, комплексные псевдогаллюцинации, чаще слуховые. У больных шизофренией бредовые идеи сравнительно разнообразны, часто фантастического, нереального содержания с наклонностью к систематизации, при эпилепсии бред носит конкретный, обыденный, отрывочный, неразвернутый, монотематический характер. Синдром Кандинского-Клерамбо при эпилептических психозах встречается реже, чем при шизофренических, отличается чертами незавершенности, структурной неполноты, имеет яркую чувственную окраску переживаний. Больные эпилепсией иначе, чем больные шизофренией, реагируют на имеющиеся у них бредовые расстройства – они активно сопротивляются «воздействию» и «преследованию», борются с неизлечимым заболеванием (в случае ипохондрического бреда), их сутяжная деятельность последовательна и обстоятельна, они аккуратны и педантичны в выполнении назначений, мало озабоченны своими бредовыми переживаниями, дистанцированны от них, откровенны в изложении своих бредовых идей.
При эпилепсии дефицитарная симптоматика складывается из явлений реактивной лабильности, вязкости, застойности аффекта, нарушений мышления в виде замедленности темпа, вязкости, тугоподвижности, ригидности, конкретности, персеверативности и обедненности, мнестических расстройств в рамках психоорганического синдрома и явлений концентрического эпилептического слабоумия. При шизофрении первым признаком дефицитарных нарушений является личностная дисгармония, которая нарастает по специфическому эндогенному типу (появление шизоидизации, аутизации личности, регресса энергетического потенциала), сопровождается эмоциональными расстройствами в виде оскудения, отгороженности, уплощения аффекта, волевыми нарушениями (абулия, парабулия, апатия, спонтанность). Нарушения мышления при шизофреническом дефекте проявляются дезорганизацией и атаксией мышления, соскальзываниями, шизофазией вплоть до словесной «окрошки». Мнестические расстройства в отличие от эпилепсии не характерны. Утрачивается единство мышления и эмоционально-волевой сферы при сохранности интеллекта и памяти.
Заключение. Основное значение в принятии окончательного суждения о диагностической принадлежности психоза имеют специфические изменения личности и дефицитарные нарушения мышления. Для дифференциальной диагностики эпилептических и шизофренических психозов, по данным исследования, наиболее значимыми были: свойственные эпилепсии изменения в аффективной сфере, мышлении, явления интеллектуально-мнестического снижения. Формирование стойкой (в ряде случаев хронической психотической симптоматики) происходило при длительном течении эпилептического процесса, наличии специфических эпилептических изменений личности, т. е. продолжительность эпилепсии является важным причинным фактором психоза. Бредовые идеи возникали на фоне уже имеющихся каких-либо иных «первичных» психопатологических нарушений, между ними легко прослеживалась тесная патогенетическая связь. Содержанием бреда чаще были идеи воздействия и преследования, он носил обыденный характер и был связан с реальным окружением больного, структура его была фрагментарной, без наклонности к развитию и систематизации, насыщенной деталями.