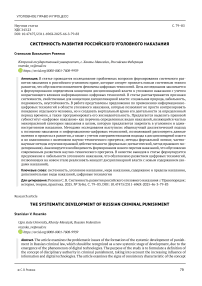Системность развития российского уголовного наказания
Автор: Розенко С.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится исследование проблемных вопросов формирования системного развития наказания в российском уголовном праве, которые следует признать новым системным этапом развития, что обусловлено появлением феномена цифровых технологий. Цель исследования заключается в формулировании определения концепции дисциплинарной власти в уголовном наказании с учетом возрастающего влияния информационно-цифровых технологий. В статье рассматриваются признаки системности, свойственные для концепции дисциплинарной власти: социальная природа, лабильность, подвижность, неустойчивость. В работе представлены предложения по применению информационно-цифровых технологий в области уголовного наказания, которые позволяют не просто контролировать поведение отдельного человека, но и создавать виртуальный архив его деятельности за определенный период времени, а также программировать его жизнедеятельность. Предлагается выделить правовой субинститут «цифровое наказание» как перечень определенных видов наказаний, являющийся частью межотраслевой категории наказания в целом, которую предлагается закрепить в уголовном и административном наказании. Методами исследования выступили: общенаучный диалектический подход к познанию наказания и информационно-цифровых технологий, позволивший рассмотреть данные явления и процессы в развитии, а также с учетом совершенствования подхода к дисциплинарной власти и во взаимосвязи с явлениями научно-технического прогресса; методы формальной логики; частно-научные методы изучения правовой действительности (формально-догматический, метод правового моделирования). Анализируется необходимость формирования нового перечня наказаний, что обусловлено современным развитием научно-технического прогресса. В качестве выводов в статье формулируется предложение о лабильности уголовного наказания, что обусловлено развитием цифровых технологий, позволяющих на новом этапе реализовать концепт дисциплинарной власти с новым содержанием (видами наказаний).
Системность, уголовное наказание, мера наказания, содержание и пределы наказания, дополнительные виды наказаний, цифровые технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/14134018
IDR: 14134018 | УДК: 343.23 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-79-83
Текст научной статьи Системность развития российского уголовного наказания
Введение
Актуальность исследования проблемы системности развития российского уголовного наказания обусловлена тем, что внесение изменений и дополнений в российское уголовное право обусловлено кардинальными переменами в экономической и общественнополитической жизни российского государства и общества и проведением специальной военной операции, что обусловило расширение криминализации деяний [1] и, в свою очередь, требует осмысления проблематики изменения системности уголовного наказания. Также это связано с глобальными сдвигами вследствие формирования информационно-цифрового общества, где цифровые технологии стали повседневным атрибутом большинства российского населения, и необходимо установить возможность их применения в наказании.
Описание исследования
Современный уровень развития теории российского уголовного права обусловлен пониманием особой, ранее не наблюдавшейся динамичной изменчивости отраслей права и правовых конструкций, что обусловлено развитием постиндустриального (информационного) общества. «Понимание динамики функционирования теоретического знания способно дать ключ к пониманию динамики науки как таковой, поскольку наука не может успешно развиваться, не обобщая новые эмпирические данные в системе теоретических средств форм и методов познания» [2, с. 21]. В настоящее время наблюдается процесс трансформации института наказания в межотраслевую правовую категорию. Следует отметить, что наказание получило закрепление не только в административном праве, но и в конституционном, праве, где для отдельных лиц закреплено прекращение гражданства. Необходимо отметить, что в советском уголовном законодательстве лишение гражданства было видом наказания. Данные сложившиеся результаты в области российского уголовного права связаны со многими социальными процессами XX и начала XXI столетий, где сложилась уникальная ситуация стремительного экономического развития; оформления перечня обязательных прав, свобод и законных интересов; развития информационного прогресса; невиданного роста народонаселения и др. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет отмечал при характеристике второй половины XX века, что «Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен — полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных… Он именуется восстанием масс» [3, с. 43]. В области наказания это проявилось в том, что во многом были устранены условия сословной принадлежности как правового иммунитета, что позволяло избежать наказания либо существенно смягчить его, или не применять отдельные виды уголовных наказаний. «В распоряжении толпы оказалось то, что создано цивилизацией. Толпа — понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу»» [3, с. 45]. С одной стороны, мы можем согласиться с данным выводом, поскольку уменьшение слоя аристократии означает увеличения доступа большего количества населения к управлению и равенства социальных слоев перед законом. Но, с другой стороны, достижение массой жизненного уровня, о котором они ранее и не смели мечтать, означает больший уровень значения их включения в реальное управление. В мировой истории уже происходили подобные процессы, в частности, в эпоху Просвещения Западной Европы. Во второй половине XX века наблюдается процесс масштабного увеличения прав и свобод человека в мире, поэтому «восстание масс» — это неоднозначный процесс. В свою очередь, это затронуло и системные основы уголовного права, и наказания, в частности. В области уголовного права был преодолен феномен сословного (классового) исключения от уголовной ответственности и применения видов наказаний для отдельных категорий лиц, так как наказание стало всеобщим, т. е. пределы применения его максимально расширились. Одновременно происходил процесс взаимодействия наказания и научнотехнического прогресса, когда на смену традиционным видам наказания предлагались новые. В уголовном законодательстве были закреплены новые системы наказаний, что позволяет утверждать, что произошел феномен прогресса в данной области уголовного права.
В теории российского уголовного права значительное количество исследователей изучало различные содержательные аспекты системности уголовного наказания и системы наказаний: В. А. Авдеев [4], Д. С. Дядькин [5], И. Я. Козаченко [6], Е. Е. Мелюханова [7], А. И. Рарог [8], В. М. Степашин [9], А. В. Шеслер [10] и многие др.
Значение системности предопределено тем, что «Общая модель теории должна соединять преимущества строго логического анализа с адекватным предоставлением описываемой реальности, а также располагать средствами описания изменения и развития структуры самого знания… Наиболее эффективным методологическим средством подобного анализа, как показала история методологических исследований научной теории, оказался системный подход» [2, С. 21–22]. Насколько интенсивнее развивается человеческий социум, настолько и трансформируется правовое регулирование как «живая материя». Поскольку исчезли из уголовного права телесные, церковные и иные виды наказаний [11], то на их место должны зайти «новые», соответствующие современной эпохе развития общества и государства.
В настоящее время благодаря развитию цифровых технологий и их закреплению в обыденной жизни подавляющей части населения России сложилась уникальная ситуация возможности реализовать эволюцию уголовного наказания, характеризующуюся не только усложнением его системности [12], но и вариантом дополнения системы наказаний цифровыми видами наказаний, основанных на дополнении межотраслевой правовой категории наказания субинститутами цифрового уголовного наказания и цифрового административного наказания, являющихся составными частями уголовного и административного наказания соответственно.
Истоки данного процесса, по нашему мнению, следует искать во взаимодействии системности уголовного наказания и его пределов с феноменом современной власти в государстве и праве и ее реализацией государством. В первую очередь, как считает А. В. Шеслер, основной тенденцией развития российского уголовного законодательства как формы уголовной политики является внесение изменений в перечень и содержание действующих уголовных наказаний [13, с. 48–51].
В уголовном наказании заложен принцип постоянного изменения и совершенствования, динамичности и статичности, так как это свойственно и власти. «Часто замечают, что власть изменяется вместе с типом и мерой дифференциации общественной системы, а также в зависимости от уровня разделения труда в отдельных системах…» [14, с. 95]. Это предопределено тем, что государственное принуждение включает в себя не только насилие, но и возможность его применения, которая основывается на развивающейся системе контроля цифровыми технологиями, что не может быть проигнорировано ни лицами, совершавшими преступление, ни лицами, их не совершавшими. Данное государственное принуждение является универсальным, так как не обусловлено ни специальными целями, ни определенными ситуациями, ни мотивациями субъектов.
Использование цифровых технологий обеспечивает большую надежность в достижении государственных властных целей. Применение уголовного наказания выступает кульминационным моментом, где разрешается конфликт между государством и лицом, совершившим преступление, Мера уголовного наказания как комбинация вариантов и альтернатив видов и пределов наказаний позволяет обеспечивать достижение целей уголовного наказания [15].
Следует признать правоту вывода Н. Лумана, что «Двойственная природа кода власти, образованная дихотомиями сильный-слабый и правовое-неправовое, покоится, следовательно, на удвоении негативных и позитивных комбинаций альтернатив, которые конституируют власть. Отсюда вытекает требование совместимости силы и права и одновременно понимание того, что сила и право не являются идентичными друг другу» [14, с. 103]. Право есть сила, но не есть произвол и своеволие, поскольку право ограничивает власть, но одновременно санкционирует и регламентирует. Правовое воздействие за совершение преступления должно быть многомерным, что позволяет достичь за счет применения правовой категории «цифровое наказание». Насколько возросло содержание власти, настолько её воздействие может видоизменяться и комбинироваться. Данное положение основывается на конструкте «дисциплинарная власть», который можно установить в области наказания, где возникает возможность осуществления постоянного контроля на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта за повседневным поведением любого лица, оказавшегося в области уголовно-правового воздействия, а также позволяет существенно ограничивать цифровые права осужденного и(или) запрещать их использование. С течением времени у государства появляется техническая возможность сформировать не только цифровой механизм повседневного наблюдения, но и сбора и анализа данных.
Поскольку в уголовном наказании содержится идея физического насилия, то следует согласиться с выводом Н. Лумана, что «Физическое насилие, намеренно применяемое по отношению к людям, упорядочивается в рамках соотнесенного с действием коммуникативного средства власти благодаря тому, что одно действие элиминируется им на основе другого, исключая тем самым коммуникативный перенос редуцированных предпосылок решений. Обладая такими свойствами, физическое насилие как таковое не может быть властью, но оно образует непреодолимый пограничный барьер для констатирующей власть альтернативы избежания» [14, с. 102]. В настоящее время использование цифровых технологий позволяет во многих случаях контролировать поведение человека. Применительно к осужденным такая возможность как инструмент дисциплинарной власти может осуществляться круглосуточно.
Заключение
Перспективным представляется использование ресурсов искусственного интеллекта для обнаружения уязвимостей и зон риска при назначении и исполнении мер уголовного наказания до их непосредственной реализации. В частности, возможно анализировать платформы социальных сетей, мессенджеров и онлайн-форумов с целью выявления любых признаков преступной деятельности отдельных категорий лиц. Предлагается формирование «цифрового портрета» каждого осужден- ного лица, который является не анкетой, а постоянно пополняемым информационным ресурсом.
В российском праве отсутствует единый нормативный правовой акт, регламентирующий все сферы деятельности в области цифровых технологий, но есть федеральные законы, регулирующие отдельные виды цифровых прав. Поэтому и обновление перечня уголовных наказаний должно учитывать данный подход, когда деятельность профессиональных участников, процесс правового оформления цифровых прав, порядок их государственного учета и обращения регламентируются специальным законодательством, а не положениями Гражданского кодекса РФ.
Поскольку в настоящее время цифровые права — это, как правило, инвестиционный инструмент либо они связаны с денежными требованиями, поэтому обосновано введение запрета или существенное ограничение определенных цифровых прав для определенной категории физических лиц.
Например, в связи с тем, что в дальнейшем предлагается установить для категории цифровых прав, которые сходны с традиционными финансовыми инструментами, эквивалентное регулирование в определенной части, по нашему мнению, следует включить в перечень наказаний, предусмотренный в УК РФ, такой новый, дополнительный вид цифрового наказания как лишение и (или) ограничение права заниматься определенной деятельностью для профессиональных участников цифрового рынка.