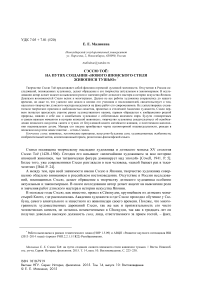Сэссю Тоё: на путях создания "нового японского стиля живописи тушью"
Автор: Малинина Елизавета Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Творчество Сэссю Тоё представляет собой феномен огромной духовной значимости. Отсутствие в России исследований, посвященных художнику, делает обращение к его творчеству актуальным и закономерным. В исследовании автор делает акцент на выяснении роли и значения работ дзэнского мастера в истории искусства Японии. Диапазон возможностей Сэссю велик и многогранен. Далеко не все работы художника сохранились до нашего времени, но даже то, что уцелело или дошло в копиях его учеников и последователей, свидетельствует о том, насколько творчество дзэнского мастера выделяется на фоне работ его современников. Не удовлетворяясь схематизмом творческих приемов и шаблонностью сюжетов, принятых в столичной Академии художеств, Сэссю первым пытается преодолеть строгие рамки художественного канона, первым обращается к изображению родной природы, заявляя о себе как о самобытном художнике с собственным видением мира. Будучи «поворотным и самым важным моментом в истории японской живописи», творчество художника свидетельствует об освобождении японского искусства «кисти и туши» от безусловной власти китайского влияния, о постепенном наполнении национальным духом. Манера его письма приобретает черты неповторимой индивидуальности, рождая в японском искусстве новое понятие - «стиль Сэссю».
Живопись, эстетические принципы, искусство буддизма дзэн, изобразительный мотив, художественные особенности, композиционный прием, религиозно-философский смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/147219251
IDR: 147219251 | УДК: 7.05
Текст научной статьи Сэссю Тоё: на путях создания "нового японского стиля живописи тушью"
Статья посвящена творческому наследию художника и дзэнского монаха XV столетия Сэссю Тоё (1420–1506). Сегодня его называют «величайшим художником за всю историю японской живописи, чья титаническая фигура доминирует над эпохой» [Covell, 1941. P. 5]. Более того, уже современники Сэссю разглядели в нем человека, «какой бывает раз в тысячелетие» [Ibid. P. 24].
А между тем, при всей значимости имени Сэссю в Японии, творчество художника совершенно обделено вниманием в российском востоковедении. Отсутствие в России исследований, посвященных Сэссю, делает обращение к творчеству дзэнского художника особенно актуальным и закономерным. В своем исследовании автор делает акцент на выяснении роли и значения работ дзэнского мастера в истории искусства Японии.
В молодые годы Сэссю, как известно, провел в Сёкокудзи, крупнейшем из дзэнских монастырей Киото, где располагалась Академия художеств и где Сэссю проходил обучение у Сю-буна, самого влиятельного и известного из живописцев своего времени. Похоже, что многогранность художественных дарований Сэссю, так же как и притягательность его чисто человеческих качеств, не остались незамеченными в Сёкокудзи, так как в тридцать лет он получил довольно высокую должность сика , лица, ответственного за прием гостей, – факт,

Сэссю. Пейзаж в стиле хацубоку.
Фрагмент.
Национальный музей. Токио сыгравший важную роль в его жизни, ставший тем необходимым и закономерным звеном в цепочке событий его судьбы, которые привели его в конце концов в Китай. Жизнь в Сёко-кудзи, атмосфера которого была насквозь пропитана китайской культурой, заботами об углублении контактов с материком, сформировала в японском художнике мечту посетить древнюю страну. Похоже, что именно своей ролью «ответственного за прием гостей» Сэссю обязан знаменательной встрече с посетившим Киото, а значит и монастырь Сёкокудзи, влиятельным князем Оути, пригласившим художника в город Ямагути, где для Сэссю открывалась реальная возможность отправиться в Китай.
В Ямагути Сэссю обрел наконец свободу от жестких и непреложных правил, господствовавших в Сёкокудзи, от живописного канона, следовать которому было неизбежно; здесь, вдали от строгих глаз наставника, творчество Сэссю вошло в русло им самим выбранного пути. И хотя традиция запрещала художникам подписывать свои работы до достижения ими шестидесяти лет, Сэссю, нарушая ее, начинает оставлять свое имя на рисунках уже сейчас, когда ему было чуть больше сорока, свидетельствуя тем самым об осознании своей творче- ской значимости, восприятии себя не как ремесленника, исполнителя чужих заказов, но художника с собственным видением мира.
Возможность посетить заморскую страну открылась художнику не сразу. Шесть или семь лет ждал он, живя в Ямагути, благоприятного поворота судьбы, пока, наконец, не был отправлен в Китай в качестве живописца и торгового представителя князей Оути, ответственного за выбор и покупку художественных ценностей.
Трудно переоценить значение того опыта, который приобрёл художник за время пребывания в древней стране. Сэссю оказался единственным из ведущих художников-монахов Японии, чьи знания о Китае, его искусстве и садах, людях и природе питались из самого достоверного источника – личных впечатлений живописца от пребывания в стране, собственного опыта, который придает знаниям, положенным в основу творчества, убедительность, искренность и глубину.
Его кисть овладела всем диапазоном художественных стилей, существующих в Китае с древнейших времен. Стили эти – син (формальный), гё (полуформальный), со (скорописный), – рожденные искусством каллиграфии, органично и естественно проникают вместе с основным потоком китайской культуры и на острова, где распространяются уже на многие другие сферы художественной деятельности японцев.
Формальный стиль син , энергичный и резкий, акцентирующий уверенный штрих, четкость контура, допускающий в рисунке подробности и цвет, обычно ассоциируется с живописью Ма Юаня, Ся Гуя, Ли Тана. Для полуформального стиля гё , занимающего промежуточное положение между формальным и скорописным, характерна неправильная, округлая линия. Творчество Му Ци – лучший пример такого рода живописи. Стиль со , стремительный, спонтанный, нашел воплощение в творчестве дзэнских монахов-художников, одним из которых был, например, Ин Юй-цзянь.
Насколько Сэссю сумел овладеть языком художественных стилей китайского искусства, а главное, проникнуться их духом, свидетельствуют его собственные рисунки, сделанные в манере китайских живописцев. Их называют энсо сансуй , т. е. пейзажи, имеющие форму круга. Японские круглые веера продавались на рынках китайской столицы сунского времени и пользовались там большим спросом. В огромном количестве они вывозились в Китай и в эпоху Сэссю. Несколько таких вееров округлой формы, расписанных художником, сохранилось до нашего времени [Акиёси Ватанабэ, 1994. P. 52]. Сначала мастер очерчивал круг на квадратном листе бумаги. Рисунок, размещенный внутри круга, он подписывал своим именем, за пределами же круга ставил имя того китайского живописца, чьей манере подражал: Лян Кая, Ся Гуя, Ин Юй-цзяня.
Пожалуй, нигде стиль син не проявил себя так властно в творчестве художника, как в цикле пейзажей на тему времён года, из которых сохранились лишь два: «Зима» и «Осень». Узкие вертикальные свитки, небольшие по формату, обрели огромную популярность к XV столетию, так как отвечали новым архитектурным требованиям и эстетическим запросам этой эпохи, продиктованным желанием украсить интерьер храма или жилого дома, вывесить картину-свиток в специально сконструированной нише токонома . Сэссю, уступая моде своего времени, его вкусам и тенденциям, оставил нам множество картин-свитков вертикальной формы.
Выразительность каждого из двух свитков значительно выигрывает, если их рассматривать вместе – как, по всей видимости, и задумывал художник. Удивительное дело, но почти осязаемое ощущение холода исходит от зимнего пейзажа, где резкость сильных, изломанных линий, контраст черной туши и белых просветов бумаги, рождающих иллюзию снежного покрова (в горах, на ступенях, ветвях деревьев), с предельной убедительностью передают атмосферу морозного дня. Созданию этого ощущения помогает ярко обозначенная прямая линия, словно «раскалывающая» морозный воздух свитка на части, вызывающая ассоциации со звоном ломающихся на морозе льдинок, со звуком поскрипывающего под ногами снега. Контрастно теплым, «уютным» выглядит осенний пейзаж, зовущий пройтись вдоль кромки воды, где стоит лодка, подняться, обойдя двух мирно беседующих монахов, по ступеням, ведущим в храм, – силуэт его «летящей» крыши отчетливо прорисовывается на фоне виднеющихся вдали гор. Американский историк искусств Эрнст Фенелоза назвал Сэссю «вели- чайшим в истории мирового искусства мастером прямой линии и угла», имея в виду как раз стиль син, в котором он воистину не знал себе равных.
История японской живописи тушью не знает других примеров, за исключением Сэссю, когда бы художник с одинаковой виртуозностью владел всеми тремя стилями, из которых техника «расплесканной туши» ( хацубоку ) в стиле со считается наиболее сложной. Скорописный иероглиф, как известно, труден как для прочтения, так и для исполнения, но и эстетически более значим. Подобно этому стремительная и подвижная манера рисования в стиле со , в основе которой лежит спонтанность и живое творческое вдохновение, признана большинством знатоков искусства высшей формой художественного творчества. Однако кажущаяся легкость, игривая беззаботность порхающей кисти, за мгновения создающей полный живого дыхания рисунок, опирается на многие годы усердной тренировки. Хранящая в себе память о многолетнем опыте общения с кистью и потому освобожденная в минуту творческого экстаза от мысли о том, «как рисовать», какими средствами передать внутреннюю реальность изображаемого, рука движется сама, повинуясь спонтанному самовыражению духа. Здесь мало одной только техники владения «кистью и тушью» – это искусство требует особого вдохновенного состояния, способности слиться, «быть одним» с предметом изображения, чтобы в несколько взмахов кисти суметь передать его сущность и душу. Сошлемся на замечательную книгу В. В. Малявина, откуда позаимствуем описание творческого процесса китайского живописца Чжан Лу (XV–XVI вв.), принадлежащее его биографу: «Завидев грозные горы и глубокие долины, кипящие ключи и бурные потоки, сплетение деревьев и нагромождение камней, кружение птиц в небе или игру рыб в воде, он надолго погружался в созерцание. Потом он раскладывал перед собой шелк и неподвижно сидел подле, ища духовного проникновения в увиденное. Когда же прозрение осеняло его, он всплескивал руками и бросался к шелку. Его кистью словно водила созидательная сила небес, и он в один присест заканчивал картину» (цит. по: [Малявин, 1995. С. 75–76]).
«Созидательная сила небес»… Не здесь ли кроется одна из главных особенностей всего дзэнского искусства – отсутствие в нем эгоцентризма, безличностность. Не художник творит, но Небо. Художнику же следует самоустраниться, растворяя свою самость, эго в процессе концентрации на избранном образе, чтобы войти в резонанс с Небом, Пустотой, Небытием, откуда все проявляется в мир феноменов. Стиль со – стремительный, спонтанный, раскрепощенный, с наибольшей убедительностью демонстрирует этот принцип « му-га » («не-я»), основополагающий для дзэнской эстетики. «Ощущение своего “я”, – по словам Судзуки, – служит главной помехой в Творчестве» [Suzuki, 1956. P. 290].
Сэссю был первым из японских живописцев, кто пробовал себя в этой сложнейшей технике, и впоследствии у себя на родине стал именоваться не иначе, как «отцом живописи в манере расплесканной туши». Из всех работ Сэссю в стиле со самым замечательным является пейзажный свиток, созданный художником уже на склоне лет, который так и называется: «Пейзаж в стиле хацубоку ». Около шестидесяти пяти лет упорного ежедневного труда потребовалось даже такому гениальному художнику, каким был Сэссю, чтобы сотворить шедевр за мгновения.
Рисунок возникает из чистого и «пустого» фона, на котором танцующая в свободном полете кисть набросала неясные очертания теней, размывов, штрихов. И только всмотревшись внимательно в этот вольный танец кисти и туши, воображение начинает дорисовывать пейзажный мотив: смутные силуэты горного хребта, проступающего из тумана, контуры деревьев, смешанных порывом ветра в одно целое, изгибы крыш, одинокую маленькую лодочку, внезапно превращающую своим присутствием белое поле свитка в водное пространство. Даже среди тех, кто оставил свои надписи на картине, не было единого мнения по поводу того, какое место имел в виду художник, рисуя пейзаж: Западное ли озеро в Ханчжоу или же вид на реку Янцзы… Но скорее всего, место это, рожденное внутренним видением художника, не находится нигде и одновременно может оказаться всюду.
Известно, что в возрасте шестидесяти семи лет (в 1486 г.) Сэссю жил под покровительством семейства Оути в Ямагути. Последующие годы оказались самыми плодотворными в творчестве художника. Не могли не сказаться огромный опыт владения кистью, богатство жизненных впечатлений, накопленных за многие годы странствий.
Именно в это время Сэссю создает знаменитый «Длинный» пейзажный свиток, посвященный в соответствии с традицией дальневосточного искусства четырём временам года. Напи- сан он в стиле син – сильном, эмоциональном, динамичном. Форма длинного – порой в несколько десятков метров – горизонтального свитка (эмакимоно), популярная в Японии в XII–XIII столетиях, к XV в. уже утрачивает свою привлекательность для художников. Редко кто из них обращался в своем творчестве к ставшей уже архаичной форме эмакимоно в те времена, когда жил Сэссю; да и определенного рода архитектурные изменения (появление строений в стиле сёин, отличительной особенностью которых была, в частности, специальная ниша – токонома) обусловили востребованность небольшой по формату вертикальной картины-свитка, удобной для вывешивания на стене. И все же художник остановился именно на горизонтальном свитке, способном передать идею подвижного течения жизни, вечно меняющихся как во времени, так и в пространстве форм бытия.
«Длинный» – в 16 метров – свиток Сэссю поражает разнообразием видов, ландшафтов, сюжетов. Мы знаем, что Сэссю намеревался оставить нам реальные впечатления о своем пребывании в Китае. Но это не просто странствия по дорогам страны, о которой никогда не переставал думать художник. Виды китайских пейзажей накладываются в сознании живописца на изображение некоего внутреннего пространства – ландшафта души. Пейзажная панорама свитка превращается в исповедь духовных странствий художника, приобретая некий эзотерический подтекст, воспринимаясь в иных – более широких – временных и пространственных масштабах. Путешествия по дальней стране начинают осмысливаться как скитания по дорогам судьбы, где в каждый момент открывается новая жизненная панорама, чаще всего неожиданная и удивительная, подобно тому как по мере развертывания свитка никогда не знаешь, какой вид откроется за следующим поворотом тропы, за крутой отвесной стеной, какого спутника встретишь на древних каменных ступенях горного храма или на крутом подъеме в гору. «Длинный» свиток разворачивается одновременно и во времени, и в пространстве. Вместе с путниками, бредущими по его дорогам, созерцатель свитка словно вдыхает сначала ароматы весны, проходит через летние, затем – осенние пейзажи, чтобы оказаться под конец свитка в мире заснеженных гор. Это конец свитка, но не конец пути, ибо среди засыпанных снегом ландшафтов снова повеяло дыханием весны. Идея непрерывности бытия и мимолетности ее преходящих форм, воплощённая в сменяющих друг друга временах года, лейтмотивом присутствует в дальневосточном искусстве. В нем не просто желание насладиться красотами природы, но смысл – глубокий и вечный.
Разворачивая свиток, человек сам участвует в творчестве, как бы формируя время – свое время. Свиток постепенно разворачивается справа налево, открывая неизвестные пока сюжеты, и одновременно сворачивается после просмотра, как бы «закрывая» прошедшее, предоставляя зрителю возможность целиком погрузиться в настоящее, сосредоточиться на том моменте, который «здесь и сейчас» – между уже свернутым и просмотренным фрагментом живописной ленты и пока еще не раскрытым. Редко где в дзэнском искусстве идея реальности и значимости настоящего звучит с такой поразительной наглядностью и убедительностью.
Никогда – до самой смерти – Сэссю не прекращал своих странствий по стране. Это отвечало особенностям его натуры, требующей движения и эмоциональной пищи для творчества, это было созвучно и той традиции, которая сложилась в монашестве. Передвижение пешком воспринималось как необходимый элемент духовного делания последователей дзэнского учения. «Странник, проходя по стране, существовал в соответствии с миром преходящего ( укиё ). Изменчивость и непостоянство реальных форм наблюдались паломником в пути, в буквальной смене визуальных впечатлений. Сообразно закону непостоянства мудзё путешественник видел мир в движении, с меняющихся точек зрения. Смотреть на мир непостоянства с четко фиксированной постоянной позиции привязанного к одному месту обывателя считалось ложным в системе буддийских воззрений. Напротив, ломая чары обыденного, путешествия служат целям буддийского видения. Таким образом, буддийский монах в акте паломничества осуществлял принцип «подвижный в подвижном», будучи на своем микроскопическом уровне изоморфным макрокосму» [Штейнер, 1987. С. 194].
Глубоко пропитавшийся духом китайской живописной традиции, пройдя ее школу и в совершенстве усвоив принципы, японский художник все же не становится послушным исполнителем канонов, жестких правил и условностей. Самобытность видения мира Сэссю с особой силой выдает себя в работах последних лет, когда художник, уступая велениям своей натуры, требующей движения, непрерывно путешествует по стране, уподобляясь, по образ- ному выражению профессора Сигэясу Хасуми, «блуждающим по небу облакам и текущей воде» [1977. P. 9].
Модель поведения, принятая многими адептами дзэн-буддизма, в символической форме передающая непривязанность к земным ценностям, текучесть и зыбкость проявленных форм бытия.
Напоенный красотой родной природы, художник начинает рисовать уже не только китайские «горы и воды», но и пейзажи своей отчизны, исполненные задушевности и теплоты. Кисть художника рождает пронзительно японские пейзажи, неожиданные на фоне живописи его времени, когда по законам жанра не принято было писать с натуры, создавать «портреты» конкретной местности, оставлять на бумаге хорошо узнаваемые ландшафты, тем более японские. В его время жанр «горы-воды» служил скорее средством передачи космичности пространства, органичности человека этому миру; горы ( ян ) – мужское, светлое начало и воды ( инь ) – женское, темное начало моделировали идею взаимосвязи всех частей макрокосма. Пейзажная живопись, проникнутая глубокими философскими раздумьями о мире, космосе, человеке, не снисходила до изображения конкретного, ибо не в этом, не в буквальном воспроизведении «натуры» виделся смысл жанра. Природа осмыслялась как носитель высоких и вечных законов, через постижение которых человек приобщается к ее мудрости. Странствия по бескрайним просторам свитка способствовали гармонизации души, ее очищению и возвышению, рождали понимание относительности земных, человеческих ценностей в масштабе всего сотворенного мира, границы которого уходят далеко за пределы изображенного.
И лишь значительно позднее, в XVIII–XIX вв., с появлением Хокусая – художника-бунтаря, названного «самым независимым и своевольным» живописцем страны, японцы познакомились с гравюрами, воспроизводящими родные пейзажи, с натуралистическими подробностями описывающими жизнь простых тружеников на фоне японской природы. Эти гравюры ошеломили современников Хокусая новизной и необычностью. В историю японской культуры он вошел как человек, чье сознание на целое столетие опередило эпоху. Что же тогда говорить о Сэссю, жившем в далеком XV в.? Художник, «одержимый», подобно Хокусаю, рисунком, он стоит особняком в истории японского искусства. По мнению японского искусствоведа Сигэясу Хасуми, посвятившего многие годы исследованию художественного феномена Сэссю, творчество художника представляет собой «поворотный и самый важный момент в истории японской живописи». «Под влиянием Сэссю, – пишет Сигэясу, – японское искусство, освобождаясь от безусловной власти китайского влияния, постепенно начинает пропитываться национальным духом» [Сигэясу Хасуми, 1977. С. 9].
Пронзительно японским, исполненным мягкости и лиризма, воспринимается пейзаж, названный «Горный храм» (Ямадэра). Картина эта, созданная семидесятисемилетним художником, к сожалению, не дошла до нас в подлиннике. Однако даже ее копия, выполненная Кано Цунэнобу, достаточно хорошо передает дух оригинала. Квадратики рисовых полей, с трудом, казалось бы, втиснутые в пространство между горами, очертания крыш сельских домов, отчетливо прорисованный силуэт тории (ворот синтоистского святилища) – щемящим чувством родины пронизан пейзаж. В этом чувстве невозможно сфальшивить, его ничем нельзя подменить. Едва ли стиль Ма Юаня или Ся Гуя способен уже был удовлетворить художника в его стремлении передать характер и настроение родной ему природы. Манера его письма приобретает черты неповторимой индивидуальности, рождая в японском искусстве новое понятие – «стиль Сэссю».
Ярким примером «японского стиля» является и картина «Небесный мост» (Аманохасида-тэ), созданная мастером уже на закате жизни. Такое название носит узкая и необычайно длинная, в полтора километра, песчаная коса, протянувшаяся в Японское море, – одно из самых живописных и замечательных мест Японии. Художник запечатлел «Небесный мост» откуда-то сверху, с такого места, которое позволяет охватить взглядом всю широкую панораму прибрежных окрестностей, длинной песчаной косы, соединяющей оба берега, окутанных туманом и словно уплывающих за горизонт гор.
Нет точных свидетельств тому, где окончил свою жизнь Сэссю. Научные сотрудники мемориального Дома-музея Сэссю в городе Масуда убеждены, что именно их город стал последним пристанищем художника на земле. Они подведут к его могиле, упомянут название храма Токодзи, где в 1506 г. в возрасте восьмидесяти шести лет он скончался.
Подводя итоги, следует подчеркнуть факт особой жизненной миссии, выпавшей на долю этого человека, – миссии духовного посредничества. Мощь его художественного дарования в сочетании с духовным опытом, приобретенным в дзэнских монастырях Китая и Японии, способствовала взятой им на себя задаче служить неким «духовным мостом», посредником между древней культурой Китая и островным государством, его родиной, где после возвращения он передавал накопленный художественный опыт своим соотечественникам. Но этого мало. По замечанию японского исследователя Киёси Миямото, Сэссю положил начало «новому японскому стилю живописи тушью» [1996. С. 13]. Освободившись от власти правил, господствовавших в столичной Академии художеств, Сэссю первым в истории японской живописи тушью обратился к изображению родной природы, создавая достоверные, истинно японские пейзажи. Надо знать силу традиции на Востоке, власть художественного канона, непререкаемость авторитета учителя, чтобы по достоинству оценить ту роль, какую сыграл художник в истории собственно японского искусства.
Список литературы Сэссю Тоё: на путях создания "нового японского стиля живописи тушью"
- Малявин В. В. Китай в XVI-XVII веках. М.: Искусство, 1995. 287 c.
- Штейнер Е. С. Иккю Содзюн. М.: Наука, 1987. 273 с.
- Covell J. C. Under the Seal of Sesshu. New York: De Pamphilis Press, Inc., 1941. 162 p.
- Suzuki D. T. Zen Buddhism. New York: Anckor Books, 1956. 314 p.
- Акиёси Ватанабе. Суйбоку-га: Сэссю то сонно рюха // Нихон но бидзюцу [明義渡邊.水墨 画: 雪舟とその流派 // 日本の美術東京 ]. Живопись тушью: Сэссю и его школа // Искусство Японии. Токио, 1994. № 4. 98 с.
- Киёси Миямото. Сэссю // Сэссю но сато [宮本清.雪舟//雪舟の郷. 益田: 雪舟の記念館 ] Сэссю // Селение Сэссю. Масуда: Дом-музей Сэссю, 1996. № 5. 61 с.
- Сигэясу Хасуми. Сэссю рон. Соно нингэндзо то сакухин [滋保羽住.雪舟論.その人間像と作品 東京 ]. Исследование творчества Сэссю. Человек и его произведения. Токио: Сингося, 1977. 101 с.