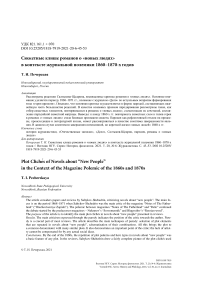Сюжетные клише романов о "новых людях" в контексте журнальной полемики 1860-1870-х годов
Автор: Печерская Т.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены рецензии Салтыкова-Щедрина, посвященные критике романов о «новых людях». Основное внимание уделяется периоду 1868-1871 гг., полемике с журналом «Дело» по актуальным вопросам формирования типа «героя времени». Показано, что основная критика осуществляется в форме пародий, составляющих важнейшую часть большинства рецензий. В качестве основных приемов пародирования рассмотрены такие, как отбор сюжетных элементов, повторяющихся в романах о «новых людях», схематизация их сочетаний, составление пародийной сюжетной матрицы. Выводы: к концу 1860-х гг. повторность сюжетных схем и типов героя в романах о «новых людях» стала базовым признаком сюжета. Пародия как рефлективный отклик на процессы, происходящие в литературной жизни, может рассматриваться в качестве симптома завершенности явления. В данном случае симптомом завершения интенсивной, но короткой жизни «новых людей» 1860-х гг.
История журналистики, «Отечественные записки», «Дело», Салтыков-Щедрин, пародия, романы о «новых людях» Для цитирования
Короткий адрес: https://sciup.org/147234553
IDR: 147234553 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-6-45-53
Текст научной статьи Сюжетные клише романов о "новых людях" в контексте журнальной полемики 1860-1870-х годов
Pecherskaya T. I. Plot Clichés of Novels about “New People” in the Context of the Magazine Polemic of the 1860s and 1870s. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 6: Journalism, p. 45–53. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-6-45-53
Сюжетные клише романов о «новых людях» рассмотрены на материале критических рецензий, которыми обменивались журналы, на первый взгляд относящиеся к близкому направлению. Речь идет о журнальной полемике «Отечественных записок» Н. А. Некрасова (1868–1884) и «Дела» Г. Е. Благосветлова (1866–1888). Читатели воспринимали журналы как прямое продолжение «Современника» и «Русского слова», поскольку редакторы, состав авторов и сотрудников, а главное – круг идей – почти не изменились со времени закрытия обоих журналов в 1866 г. Вновь открывшиеся журналы возобновили полемику с того же места, на котором остановились перед закрытием. Оба журнала осыпали друг друга обвинениями по поводу ложных эстетической и идеологической позиций. Одно из главных обвинений «Отечественных записок» заключалось в эстетической неразборчивости (вульгарный «утилитаризм») и умозрительной идеологической тенденциозности конкурентов («махание картонным мечом», «разговорное неудовольствие» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 262]) 1 . В обратную сторону чаще всего фигурировало обвинение в отступничестве от идей «Современника» времен Добролюбова и Чернышевского.
История журналов, как и история их соперничества, хорошо изучена и описана историками литературы и журналистики, ведущие демократические журналы никогда не оставались без внимания. Назовем некоторые базовые работы, на которые до сих пор опираются современные исследования: В. Е. Евгеньев-Максимов [1936; 1953], Ф. Ф. Кузнецов [1965], М. В. Те-плинский [1966], Б. Ф. Егоров [1982], Н. П. Емельянов [1986]. Мы же остановимся на одном аспекте журнальной полемики, не привлекавшем до сих пор внимание исследователей: рассмотрим, как рецензия, ориентированная на текущие новинки литературы, может в то же время отражать базовые тенденции литературного процесса.
Предметом статьи является начальный период «Отечественных записок» – 1868–1871 гг. В эти годы Салтыков-Щедрин был главным критиком и, соответственно, идеологом журнала. Далее отдел критики возглавил Н. К. Михайловский, чьи народнические идеи во многом определяли направленность журнала в 1870-е гг. В период, интересующий нас, Щедрин вел отдел «Новые книги», в котором все рецензии печатались анонимно, что означало солидарность всего журнала 2. Рецензии Салтыкова-Щедрина печатались почти в каждом номере и имели одну характерную особенность: Щедрин будто бы продолжал полемику, которую он вел с «Русским словом». Он рецензировал главным образом беллетристическую продукцию журнала «Дело» (не считая рецензии на пьесы, поставленные в театре), и в почти во всех случаях это были отрицательные отзывы 3. Именно в его рецензиях аккумулировалась сю- жетная матрица романов и повестей о «новых людях», поскольку где же, как не в демократических журналах, публиковались такие произведения (пересказ сюжета, как известно, был обязательной частью рецензии). Щедрин лишь в некоторых случаях задевал авторов своего журнала, но такие случаи нечасты. Например, Д. Л. Мордовцев сотрудничал с журналом сразу в двух качествах – как историк, чьи произведения ценились журналом, и как беллетрист, произведения которого критиковались с характерной для Щедрина прямотой. Обыгрывая две ипостаси Мордовцева в рецензии на его историческое сочинение, Щедрин пишет: «Под именем г. Мордовцева подвизаются в русской литературе два писателя. Очень может быть, что эти два писателя соединяются в одной личности, но и в таком случае они не имеют между собой ничего общего в литературном отношении. Один из двух гг. Мордовцевых известен как беллетрист, другой – как историк; один пишет романы и повести, представляющие болезненный бред крайне расстроенной фантазии; другой, напротив того, в своих исторических монографиях проявляет трезвый, положительный <…> взгляд на события минувшей истории нашего отечества… <…> мы имеем дело с неразгаданным чудом природы» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 581] 4.
Отзывы, посвященные произведениям о новом демократическом герое, а именно такие произведения были в центре внимания критики, нередко выражались в пародийном, сатирическом описании романов.
В этом можно усмотреть некоторое противоречие: Щедрин, с одной стороны, в единственной своей программной статье «Напрасные опасения (По поводу современной беллетристики)» 1968 г. 5 , полемизируя со Страховым, выразил уверенность в том, что только демократическая литература с новым деятельным героем имеет будущее, с другой – последовательно критиковал романы с таким героем. На страницах «Отечественных записок», выходивших еще под редакцией Краевского, в 1867 г. была опубликована обширная статья Н. Н. Страхова «Бедность нашей литературы». Страхов писал в ней об упадке современной литературы, и главной причиной этого упадка он считал влияние на литературу нигилистических революционно-демократических идей. Щедрин даже проявил готовность делать скидку в требованиях к первопроходцам новых тем и идей. Так, например, оправдывая неудачи автора, он пишет в рецензии на роман Омулевского «Шаг за шагом»: «Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература <…> и, наконец, великое множество устных преданий <…> Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно…» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 416–417] 6.
В то же время Щедрин последовательно критикует эту самую что ни на есть демократическую литературу, помещенную в демократическом журнале, критикует наряду с почтенными писателями вроде Тургенева, Гончарова, Писемского, которые, по его замечанию, только играют в демократическую литературу, но никуда не продвинулись далее «лишних людей», чье время прошло безвозвратно («…нигилист в глазах этих писателей – это только новое полезное украшение в повествовательной литературе, несколько более пикантное, нежели прежние Стародумы и Правдины, но настолько, однако ж, насколько текущая современность более пикантна современности давно прошедшей…» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 342]) 7.
Уяснив тип «ненужного человека» («лишнего»), литература, по мысли критика, должна теперь уяснить тип «человека нужного» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 11] 8 – положительный тип русского человека. Щедрин имел в виду прежде всего тип героя из народа 9, но не только его. Демократический герой интеллектуального плана также не был найден. Ни тургеневский Базаров, ни герои романа Чернышевского Щедрина не устраивали. А между тем новые герои беллетристики 1860–1870 гг. были созданы с оглядкой именно на эти образцы 10.
Развивая в своей программной статье идеи ангажированности всякой литературы, в рецензии на роман Гончарова «Уличная философия» Щедрин писал: «Литература и пропаганда – одно и то же» [Там же. С. 62] 11. В рецензии на роман А. Михайлова (Шеллера) «В разброд», полемизируя с «Делом», Щедрин продолжает мысль о связи литературы и пропаганды. Он пишет о том, что актуальные общественные вопросы, разумеется, крайне важны, но отсутствие художественности они возместить не могут. Относительно Михайлова это замечание связано с попыткой писателя изобразить «новых людей»: «Это даже не люди, а марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей…» [Там же. С. 363] 12. Позже с защитой Михайлова выступил П. Н. Ткачев, критик «Дела» (поводом послужил выход в 1873 г. пятитомника Михайлова). Продолжая обыгрывать противопоставление тенденциозности и художественности, Ткачев пишет: «Тенденциозность, само собою понятно, не исключает художественности, хотя, с другой стороны, она и не предполагает ее» 13.
Вернемся к рецензиям Щедрина, где формой уничижительной критики идеологически «прогрессивных», но бездарных авторов становится пародия. Щедрин как критик всегда был склонен упрощать сюжет рецензируемого произведения, необоснованные длинноты его вообще раздражали. Это легко понять, особенно учитывая необходимость по долгу службы прочитывать множество текстов. Нередкое указание в рецензии на количество страниц романа – прямая жалоба на тягостный труд рецензента. В качестве приема схематичное изложение сюжета позволяло приводить его к общему знаменателю со множеством подобных сюжетов. Этот способ, кроме прочего, демонстрировал беспомощность автора, неумело использующего заимствованные растиражированные сюжеты ради выражения умозрительных идей.
Отсутствие художественности, незнание «азбуки беллетристики» (под азбукой беллетристики Щедрин подразумевает элементарное умение связывать концы с концами и предъявлять мотивацию действий героев), наконец, недостаток самостоятельности мысли авторы, по мнению критика, замещают подражанием, причем зачастую подражанием подражанию.
Так, например, разбирая роман А. Михайлова (Шеллера) «Засоренные дороги» 14, Щедрин описывает сюжет романа как сборную конструкцию из разного литературного материала. Одним из любимых литературных источников для любого беллетриста – с тенденцией или без – служил Тургенев, которого Щедрин не может попутно лишний раз не задеть: «С тех пор, как И. С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами “дворянских гнезд”, описывать эти гнезда “по Тургеневу” почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдающего отдышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла в угол хозяйку-помещицу и подле них молодое, страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских дрязг. Затем варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки, ночью же припустить соловья» [Салтыков-Щедрин, 1970. Т. 9. С. 266].
Далее в рецензии Щедрин продолжает тему «сочиненного с чужих слов». Тургеневский блок в его описании сменяется перечислением штампов из репертуара сюжетных ситуаций о «новых людях». Сюда относятся «…реформы по части меньшей братии <…>Мужики, разумеется, ничего не понимают; им дарят лес (лес – это слабая струна, это couleurlocale никогда не бывавших в деревне авторов), а они, вместо того чтобы употребить его на дело, пропивают» [Там же. С. 267]. Героиня Катя (то самое «молодое страстное существо, задыхающееся от житейских дрязг»), которая, отказавшись от неправильного («пошлого», в терминологии Чернышевского) жениха, встречает такого же, как главный герой, прогрессивного молодого человека, притом аскета («практически ничего не ест»), но он отказывается от нее уже из идейных соображений: «…из боязни, что не достанет куска хлеба, что этот кусок придется воровать у других людей, неповинных в том, что я вздумал потешить себя любовью, пороскошничать» [Там же]. Здесь рахметовская тема отказа от личного счастья синонимична бессмысленному прекраснодушию.
На примере романа Д. Мордовцева «Новые русские люди» Щедрин выводит две схемы («манеры») романов о «новом русском человеке». Они зависят от места действия: «Если “новый человек” орудует в провинции, то он обыкновенно начинает с того, что приезжает из Петербурга и тотчас же грубит родителям и доказывает им, что они ослы». Попутно он «увлечет за собой маленького “братишку” и маленькую “сестренку”. В первой главе петербургский гость говорит отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; отец конфузится <…> мать утирает слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главе петербургский гость опять повторяет отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; братишка и сестренка вторят ему; отец конфузится, мать утирает слезы. В третьей главе сестренка фискалит петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится Богу. <…> В четвертой главе отец начинает поддаваться: “А ведь ты прав, мой друг, – говорит он, – я действительно не больше как старый осел”. И так далее, до тех пор, пока автору самому не надоест тянуть эту канитель. Тогда он пишет “конец” и отправляет свое произведение в типографию.
Вторая манера, то есть когда место действия назначено в Петербурге, еще проще. Глава I: “новый человек” сидит в кругу товарищей; бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем. “Работать! – вот назначение мыслящего человека на земле!” – говорит “новый человек”, и сам ни с места. “Работать! – вот назначение мыслящего человека на земле!” – отвечают все товарищи, каждый поодиночке, и сами ни с места. Глава II: бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; “новый человек” сидит в кругу товарищей. “За труд! за честный и самостоятельный труд!” – возглашает “новый человек”, и сам опять-таки ни с места. “За труд! за честный и самостоятельный труд!” – отвечают поодиночке товарищи, и тоже ни с места. И так далее, до тех пор, пока автора не стошнит. Тогда – “конец”, и рукопись в типографию» [Там же. С. 371–372] 15.
К «общим местам», «общим мотивам» Щедрин относит, например, стремление героя заниматься крестьянскими вопросами, способы решения женского вопроса. И тут он делает очень тонкое наблюдение, выходящее за рамки критики романа. Кажется, замечает он в рецензии на роман Авдеева «Меж двух огней», что общие места легче всего поддаются «литературной экспроприации», но нет, – «ничто так легко не ускользает от художественных повторений, как образцы» [Там же. С. 303] 16.
Предметом саркастического изображения в рецензии является герой, стремящийся к «большому делу» и встречающий «большую любовь»: «Не ограничившись изображением психологии любовной “страсти” в обычной тургеневской манере (как это было, например, в «Подводном камне»), Авдеев решил изобразить обширную картину “интереснейших общественных компликаций 17 периода крестьянской реформы”» [Салтыков-Щедрин, 1970. Т. 9. С. 303]. Однако обращение Авдеева к социальной проблематике оказалось неудачным. Авдеев, как сказано в рецензии, «не воспользовался ничем из богатого материала, который находился у него под руками» [Там же] 18: заимствуя отдельные положения из типологически близких произведений, автор затрудняется совместить их с новыми обстоятельствами жизни. «Большое дело», к которому стремится герой, не задается, не то, что «большая любовь, в ожидании которой герой решил остаться холостяком» [Там же. С. 304].
Предмет «большой любви» – Ольга Мытищева, жена декабриста, возвращенного из ссылки. «Ища “большой любви”, – пишет Щедрин, – Камышлинцев так же случайно наталкивается на Ольгу Мытищеву, как случайно наталкивается он и на крестьянскую реформу, ища “большого дела”, то есть без малейшего участия сознания» [Там же. С. 310]. После ряда недоразумений герои переключаются на других возлюбленных. Героя увлекает «молодая, слегка эманципированная девица Анюта Барсукова <…> Эта последняя пленяет Камышлинцева своей рассудительностью, деятельностью и основательными замечаниями о женском труде…» [Там же]. В отношении Ольги с безупречным благородством ведет себя муж. Благородство это, впрочем, заимствованно также из многочисленных романов жоржсандовско-чернышевской линии. Отдельные фрагменты романа Щедрин цитирует, справедливо полагая, что они уже сами по себе являются пародией в силу нелепости. Так, например, выглядит разговор мужа с неверной женой и ее любовником: «Я знаю, – продолжал Мыти-щев, – что над нами будут подсмеиваться. Но я презираю эти дрязги и сумею стать выше их <…> Вы должны поднять головы высоко и смотреть всем прямо в глаза. Слышишь, Ольга! Если я не виню тебя, то тебе нечего бояться света <…> Я переменю квартиру, и вы должны жить с нами, – сказал он Камышлинцеву» [Там же].
Обозревая в целом романы беллетриста, Щедрин пишет: «Оказывалось, что все, что в них повествуется, уже было когда-то и где-то написано» [Там же. С. 303].
Пародирование романов о «новых людях» по способу совершенно сходно у Щедрина с пародированием героев и сюжетов так называемых антинигилистических романов. Саму категорию «антинигилистический роман», отмечает К. Ю. Зубков, можно рассматривать как идеологический конструкт, сформированный радикальной критикой едва ли не прежде, чем он появился. Фактически в него были включены без разбора все произведения, «враждебные» по отношению к демократическим идеям. Таким образом, в категорию «антинигили-стический роман» попали не только произведения, идеологически всецело ориентированные на «демонтаж» нового героя времени, например романы В. Клюшникова, В. Авенариуса, В. Крестовского, Б. Маркевича, В. Авсеенко, В. Мещерского, где разнообразно утрировались черты разночинца-нигилиста, но и романы Тургенева, Гончарова, Достоевского, мало подходившие под критерии, сформулированные критиками и публицистами «Современника» и «Русского слова» [Зубков, 2015].
Со времен публикации статьи Антоновича в «Современнике» отрицательное отношение к роману Тургенева и в «Отечественных записках» не претерпело существенных изменений. Показательна статья Скабичевского «Русское недомыслие» (1868), в которой «Отцы и дети» были уравнены с антинигилистическими романами, такими как «Некуда» Стебницкого, «Марево» В. Клюшникова, «Бродящие силы» В. Авенариуса 19 (основание – отсутствие твердого мировоззрения, типизация на основе случайных черт). Щедрин вполне разделял эту точку зрения. Подобные произведения он причислял к необулгаринской школе 20. Не стал исключением и роман Гончарова «Обрыв», причем главным образом за счет изображения Марка Волохова. Этого героя Щедрин рассматривает в статье «Уличная философия (По поводу 6-й главы 5-й части романа “Обрыв”)». Сгущение действий, черт создает карикатурное впечатление: «Волохов входит в дома, в большинстве случаев не иначе, как в окошко и через забор; он спит в телеге, покрытой циновкою; он занимает деньги, предупреждая, что не отдаст их; он не признает бессрочной любви и довольствуется любовью срочною. Все это черты, которые, по мнению г. Гончарова, характеризуют нового человека…» [Салтыков-Щедрин, 1970. Т. 9. С. 70].
Заключение
Отметим, что Щедрин, разумеется, не был одинок в симпатии к пародии как средству критического высказывания. Природа его сатирического таланта много этому способствовала. В целом же в 1850–1860-е гг., как известно, жанр пародии находился в полном расцвете 21, и, как отмечает Е. В. Целикова, «пародия функционально сближалась с литературной критикой и выступала важным средством литературной полемики» [2007. С. 7].
Что касается романов о «новых людях», то к этому времени их количество уже подошло к той границе, за которой в большинстве случаев повторность стала базовым признаком сюжета. Этот беллетристический сюжет в конце 1860-х – начале 1870-х гг. еще не вступил в народническую фазу сюжетов о хождении «нового человека» в народ. В рецензиях Щедрина он получает своего рода формульность в смысле, отчасти близком к тому, которым Джон Г . Кавелти наделяет понятие формульности массовой литературы: «Формула – это комбинация, или синтез, ряда специфических культурных штампов и более универсальных повествовательных форм…» [1996. С. 36].
Сюжет о новом герое – герое-деятеле – возник в 1860-е гг., был широко растиражирован, соединился с близкими сюжетами, превратился в клише – и всё это за сравнительно небольшое время – чуть больше десятилетия. «Нигилист» как литературный герой еще не успел получить развития, как роман Чернышевского ввел других героев – «новых людей», «особенного человека». Со временем базаровские черты соединились с рахметовскими, и герои первоисточников обрели универсальные свойства героя времени. Прибавить к этому гонимого, но доживающего век «лишнего человека», и мы получим едва ли не самый насыщенный – в типологическом смысле – период литературы середины XIX в. Пародия как рефлективный отклик на процессы, происходящие в литературной жизни, по сути, может рассматриваться в качестве симптома завершенного явления. И пародийные рецензии Щедрина, построенные на сгущении клишированных сюжетных элементов, показательны с этой точки зрения. Они свидетельствовали о завершении интенсивной, но короткой жизни «новых людей» 1860-х гг.
Received
29.01.2021
Список литературы Сюжетные клише романов о "новых людях" в контексте журнальной полемики 1860-1870-х годов
- Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов и Салтыков-Щедрин // Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов и его современники. М.: Федерация, 1936. 336 с.
- Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 282 с.
- Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л.: Искусство, 1982. С. 209221.
- Емельянов Н. П. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина (1868-1884). Л.: Худож. лит., 1986. 333 с.
- Журавлева А. И. Создание романного «героя времени» // Журавлева А. И. Кое-что из былого и дум: О русской литературе XIX века. М.: Изд-во МГУ, 2013. С. 62-80.
- Зубков К. Ю. «Антинигилистический роман» как полемический конструкт радикальной критики // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2015. № 4. С. 122-140.
- Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул / Пер. с англ. Е. М. Лазаревой // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33-54.
- Кузнецов Ф. Ф. Журнал «Русское слово». М.: Худож. лит., 1965. 399 с.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1970. Т. 9. 647 с.
- Теплинский М. В. «Отечественные записки» (1868-1884): История журнала. Литературная критика. Южно-Сахалинск: Дальневост. кн. изд-во, 1966. 399 с.
- Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С.284-309.
- Целикова Е. В. Пародийная личность А. А. Фета в творчестве поэтов «Искры»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Череповец, 2007. 24 с.