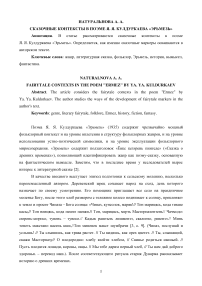Сказочные контексты в поэме Я. Я. Кулдуркаева "Эрьмезь"
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сказочные контексты в поэме Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь». Определяется, как именно сказочные маркеры осваиваются в авторском тексте.
Вымысел, жанр, история, литературная сказка, фантастика, фольклор, эрьмезь
Короткий адрес: https://sciup.org/147249229
IDR: 147249229 | УДК: 82-252
Текст научной статьи Сказочные контексты в поэме Я. Я. Кулдуркаева "Эрьмезь"
Поэма Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь» (1935) содержит чрезвычайно мощный фольклорный контекст и на уровне вплетения в структуру фольклорных жанров, и на уровне использования устно-поэтической символики, и на уровне эксплуатации фольклорного миросозерцания. «Эрьмезь» содержит подзаголовок «Ёвкс кезэрень пингеде» («Сказка о древних временах»), позволяющий идентифицировать жанр как поэму-сказку, основанную на фантастическом вымысле. Заметим, что в последнее время у исследователей вырос интерес к литературной сказке [2].
В качестве вводного выступает эпизод подготовки к сельскому молению, несколько переосмысленный автором. Деревенский жрец созывает народ на сход, день которого назначает по своему усмотрению. Его помощник приглашает все село на праздничное моленье Богу, после этого хлеб размером с тележное колесо поднимает к солнцу, преклоняет к земле и просит Чипаза – Бога солнца: «Чипаз, кунсолок, маряк!// Тон марицясь, кода тикше касы,// Тон неицясь, кода пеште панжи.// Тон, марицясь, мерть Масторпазонтень// Чачмодо: сюронь-сюросо, тувонь – тувосо.// Кадык раштыть лишмензэ, скалонзо, ревензэ.// Минь тонеть макстано васень кши,//Тон миненек макст шумбрачи [3, с. 9]. (Чипаз, послушай и услышь! // Ты слышишь, как трава растет. // Ты видишь, как орех цветет. // Ты, слышащий, скажи Масторпазу// О плодородии: хлебу взойти хлебом, // Свинье родиться свиньей. // Пусть плодятся лошади, коровы, овцы. // Мы тебе дарим первый хлеб, // Ты нам дай доброго здоровья. – перевод наш.). После соответствующего ритуала старик Дуварма рассказывает историю о древних временах.
Е. А. Федосеева считает, что «вступление к поэме самая сильная ее часть, в ней есть высокая поэзия, хороший язык, воплощенный в певучем фольклорном стихе, представлен обряд подготовки и проведения моления, хотя и в рафинированной форме. Здесь чувствуется поэтическое вдохновение, нацеленность на создание произведения об исторической жизни эрзи и мокши в стародавние времена, когда ими руководили два сильных, оставивших в истории заметный след, князя - мокшанский Пурейша и эрзянский Пургас» [7, с. 23].
В повествовании, которое начинает Дуварма, предстает идеальный мир прошлого, когда земля была плодородна, мужчины - отважны и сильны, женщины - прекрасны и хозяйственны, скот - многочислен. Трудовая жизнь подобна празднику, но иногда он нарушается вмешательством нечистой силы и ведьмаков.
Художественное пространство поэмного мира пронизано деталями, заимствованными из фольклора. Например, симулированный обряд гадания, легенда об эрзянской богине воды Ведяве (образ которой здесь демонизируется), но более всего в тексте сказочных маркеров. Особенно мощно они начинают фигурировать в части, когда Эрьмезь сватает Котову. Ее отец, мокшанский князь Пурейша, требует от претендента на руку дочери выполнить три невыполнимые задачи (традиционный сказочный прием): добыть кочедык, который сам плетет лапти; принести челнок, который сам прядет нитки; суметь переждать год до свадьбы.
Кроме этого, в поэме-сказке появляется традиционное распутье, как правило, побуждающее героя сделать жизненно важный выбор, что «позволяет раскрыться его внутренним силам, о которых и он сам не всегда подозревает» [7, с. 26]. Но у Я. Я. Кулдуркаева символы ведут себя нетрадиционно. Так, Эрьмезь, оказавшись на перепутье, не может принять никакого решения и засыпает. В полночь появляется сидящая на свинье старуха, которой сын Пургаса излагает свою проблему, и она соглашается ему помочь: привозит его в свою избушку, кормит, поит, укладывает спать, затем провожает к дому своего брата - хранителя чудесного кочедыка. Очевидно, что образ кулдуркаевской старухи синонимичен образу сказочной Бабы-Яги, напоминающей тип русской Яги-дарительницы [4, с. 53], которая сочувствует герою и помогает ему выполнить назначение. Эрьмезь становится помощником пасечника, чтобы, улучшив момент, украсть у него кочедык. Эрьмезь, в обычной жизни демонстрирующий неспособность быстро принимать решения, в исключительной ситуации обретает ловкость и хитрость и находит способ обмануть колдуна-пасечника. Здесь вновь поэт заставляет активизироваться сказочный контекст: его герой рубит огромный дуб, прорубает в стволе расщелину и вставляет в нее клин. В расщелину помещает свои руки, убеждая пасечника в том, что таким образом они быстро согреются. Старик доверяется хитрецу и оказывается в тисках у дерева. Эрьмезь забирает кочедык и относит родителям Котовы, которые сразу же придумывают для него новое испытание.
Ситуация повторяется по сложившейся схеме: Эрьмезь ночью выходит на знакомую дорогу, засыпает, в полночь появляется пасечный старик на слепом жеребце, под давлением героя обещает помощь - отсылает его к своей сестре, хранящей волшебный челнок, на остров, находящийся посредине огромной реки. Река не пускает чужака, он ударяет по водной глади палкой и появляется мост, по которому он добирается до жилища старухи, получает волшебный челнок и стремится к Котове, мать которой объявляет, что свадьба будет только через год.
Очевидно, что автор прививает черты демонологической сказки к своей поэме, погружая главное действующее лицов запредельное пространство, в мир ведьмаков и нечистой силы. Такой прием понимается неоднозначно (наполняясь, между прочим, и смеховым содержанием [6]), поскольку изначально Эрьмезь презентуется как сын эрзянского князя Пургаса, который есть реальное историческое лицо. И в историческом повествовании (историческом романе, повести, поэме) должны соблюдаться определенные правила при создании художественного образа исторического героя [см. об этом: 1; 8; 9].
Сказочные контексты переплетаются с историческими, когда Эрьмезь отправляется биться с многочисленными врагами - Пурейша, поддержанный половцами и русскими князьями, нападает на княжество Пургаса. Собираясь на битву, Эрьмезь умоляет мать и невесту внимательно следить за ножом, воткнутым в бревно: «Петниндеряй ведь те пшти пеельстэнть,// Мереде мондень: кармась сиземе.// Пургиндеряйть верть пееленть эйстэ,// Мереде: чавизь, кулось Эрьмезенк [3, с. 58]. (Закапает вода с этого острого ножа,// Скажите обо мне: начал уставать.// Закапает кровь с ножа,// Скажите: убили, умер наш Эрьмезь. -перевод наш).
Эрьмезь уподобляется здесь герою известной сказки Ивану Быковичу: «На третью ночь собирается на дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску поставил и говорит братьям: - Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю ночь не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит - ладно дело, если полна миска набежит - все ничего, а если через край польет - тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня и сами спешите на помочь мне» [5, с. 78].
Битва, которая предстоит Эрьмезю, воспринимается как один из непременных элементов сюжета поэмы. В основе «Эрьмезя» - сказочная схема, в соответствии с которой герой должен преодолеть три препятствия: два - несложных и третье, сопряженное с риском для жизни. Первые два испытания (добывание волшебного кочедыка и челнока) Эрьмезь преодолевает быстро. Третье испытание (удержать и защитить невесту) становится опасным для всех эрзян, потому что сражаться нужно будет с мокшанами, половцами и русскими одновременно. Сразу возникает аналогия с трехголовым Змеем Горынычем [7, с. 30-33]. Эрьмезь, как сказочный богатырь, вступает в противостояние с воинством, имеющим три «головы» - половецкую, мокшанскую, русскую.
Еще один любопытный сказочный маркер фигурирует в эпизоде диалога Дыдая и Эрьмезя. Эрьмезь просит друга дать воды, чтобы успокоить сердце, унять душевную тоску и прогнать усталость. Здесь рождается аналогия с мертвой и живой водой, используемой для оживления разрубленного на части Ивана-царевича. Но у Я. Я. Кулдуркаева вода оживляет не буквально погибшего героя, а утомленного физически и эмоционально. Живительные способности воды наполняют Эрьмезя новой силой.
Кроме сказочных мотивов, в поэме звучат и мифологические. Например, Эрьмезь и Котова, счастье которых невозможно, превращаются в березу (Котова) и холодный камень (Эрьмезь): береза-Котова стоит посреди эрзянской земли, и каждую весну девушки водят вокруг нее хороводы и поют песни.
Действительность и фантастика, взятая из волшебной сказки и демонологической былички, крепчайшим образом связаны в поэме Я. Я. Кулдуркаева: Сура и Мокша, Пургас и Пурейша, русский и половецкий князья есть исторические приметы. Ведьмаки и ведьмы, разъезжающие на свиньях, свиное стадо, превращающееся в войско, кочедык, сам плетущий лапти, и челнок, сам прядущий нить, есть фантастические детали.
Основная идея в художественном произведении воплощается в образе главного действующего лица - выразителя авторской концепции реальной действительности. Но в данном случае отношения с запредельным миром делают образ Эрьмезя в некотором роде алогичным. В волшебных сказкахгерой тоже контактирует с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Морским царем, Серым Волком, Коньком Горбунком и т. д. Он и сам может быть волшебником, обладать даром оборотничества. В поэтической сказке, каковой является «Эрьмезь», герой тоже мог бы обладать такими чертами, если бы не был презентован как сын исторически реального князя Пургаса. Пребывание в пространстве двух миров, человеческом и демоническом, не может быть ничем оправдано в данном случае. А вот товарищ Эрьмезя - Дыдай, созданный по модели персонажа волшебной сказки, на наш взгляд, полноценен и легко существует в фантастическом и реальном хронотопах .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в поэме «Эрьмезь» звучат мотивы волшебно-фантастических сказок, но сюжет, герои и язык - авторские. Я. Я. Кулдуркаев, обращаясь к фольклорному материалу, пытался решить креативные задачи. Несмотря на это, автор абсолютно правильно применяет законы фольклора, грамотно используя основные сюжетообразующие элементы волшебной сказки (враждебный тесть; трудные задачи; связь с потусторонним миром; предметы, дающие изобилие; волшебные предметы, помогающие герою; похищение невесты; ночная старуха, напоминающая Бабу Ягу; дом в лесу; защемление рук колдуна в расщелине дерева; переправа через мост; живительная вода; змей; бой).
Список литературы Сказочные контексты в поэме Я. Я. Кулдуркаева "Эрьмезь"
- Гераськин Т. В., Шаронова Е. А. Фольклорно-исторические контексты повествования в романе-сказании К. Г. Абрамова «Пургаз»//Финно-угорский мир. -2013.-№ 4. -С. 12-17. EDN: SGQROX
- Гудкова С. П., Шаронова Е. А. Особенности интерпретации фольклорного материала в современной литературе (на примере поэмы А. М. Шаронова «Иван и Жар-птица»//Гуманитарные науки и образование. -2014.-№ 2.-С. 163-164. EDN: SMLNHD
- Кулдуркаев Я. Я. ды лият. Кезэрень пингеде. Эрзянь раськеде. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1994.-136 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.-368 с.
- Русские сказки: Из сборника А. Н. Афанасьева/сост., послесл. и словарь малоупотреб. и обл. слов В. П. Аникина. -М.: Изд-во худ. лит-ры, 1987. -383 с.
- Осовский О. Е., Дубровская С. А. Разработка концепции «смехового слова» в трудах М. М. Бахтина 1930-1960-х гг.//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2014. -№ 4-1 (34). -С. 163-167. EDN: RWYWNV
- Федосеева Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. -212 с. EDN: QTONFR
- Шаронова Е. А. Сюжетообразующая роль песни «Не по плису, не по бархату хожу, а хожу, хожу по острому ножу…» в романе «Обитель» Захара Прилепина//Язык и поэтика русского фольклора: к 120-летию со дня рождения В. Я. Проппа: сборник докладов всероссийской (с международным участием) научной конференции. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. -С. 144-147. EDN: UYPJMJ
- Шеянова С. В. Мордовский исторический роман в финно-угорском литературном дискурсе 1980-2000-х гг. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. -105 с. EDN: UEFCZD