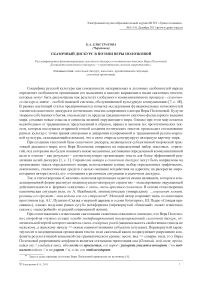Сказочный дискурс в поэзии Веры Полозковой
Автор: Елистратова Ксения Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Текст и дискурс на современном этапе развития лингвистики
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В поэтических текстах Вера Полозкова рассматривается функционирование сказочного дискурса. Доминирующей частью дискурса является «энергетически сильные макротексты».
Сказочный дискурс, имя-оним, предикативная ситуация, сказочная пропозиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14822691
IDR: 14822691
Текст научной статьи Сказочный дискурс в поэзии Веры Полозковой
Не менее интересно в заявленном темой аспекте стихотворение Веры Полозковой «Смерть автора». Семантический потенциал названия, отсылающего к работе французского философа-постструктуралиста и семиотика Ролана Барта, получает буквальную реализацию на текстовом уровне. Сказочная пропозиция включает автора-творца, который умер, и его персонажей, которые ожили и продолжают свое существование: Джек-сказочник намного пережил / Свою семью, и завещал, что нажил / Своим врачам, друзьям и персонажам // Коту, Разбойнику и старой ведьме Джил . Текст стихотворения – результат игрового обращения с энергетически сильными сказочными макротекстами (на сей раз речь идет о сугубо авторской сказке): ситуация оживания персонажей является типичной и встречается в сказках Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», Д. Родари «Путешествие Голубой Стрелы».
Здесь мы вновь имеем дело с ситуацией инсценирования сказочного дискурса, доказательством чего является состав персонажей, участников ситуации: Джек и Джил – главные герои английских стишков-сказок сборника «Мелодии Матушки Гусыни» середины XVII в.; Кот и Разбойник – персонажи из сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».
Рассматриваемый поэтический текст актуализирует транскультурные связи – от персоналий зарубежных авторских сказок до русских лингвокультурных сказочных символов (ср. : Чтоб влезть наверх и снять с буфета плошку / С не-плачь-травой , и всыпать ровно ложку… ). В стихотворении можно выделить и традиционные для сказочного дискурса колоронимы. В этом аспекте наиболее значим «зеленый» ( густой зеленый суп из не-плачь-травы). Зеленый цвет относится к хроматическим цветам спектра и в фольклоре обычно обозначается субстантивированным дериватом зелье .
В стихотворении «Беда» сказочный дискурс задается инициальной паремией Беда никогда не приходит одна (иллирийская пословица, из Далматии). Оценочное абстрактное понятие «беда» персонифицируется и выступает как активный субъект предикативной ситуации стихотворения, человек же (героиня текста), в терминологии А. Вежбицкой, выступает экспериенцером, т.е. неспособным контролировать события: Беда приносит с собой вина / Приводит с собой друзей / Берет гитару, глядит в глаза / Играет глумливый джаз…. Пословичная пропозиция структурно реализуется простыми двусоставными предложениями. Кроме того выражена идея «множественности» бед, способность беды к быстрому увеличению, бесконтрольному росту, что отражается русской пословицей Пришла беда – отворяй ворота (ср. у Веры Полозковой: Беда звонит – значит отворяй / железные ворота).
Фольклорная ситуация персонификации беды и ее шествия по земле распространена в русской литературе (одно из словарных значений лексемы беда – синоним горе [8, т. 1, с. 311]: ср. «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе Злочастие довело молодца во иноческий чин»). Наряду с пословицами (сугубо сказочными по своему историческому происхождению) поэтический текст содержит отсылку к известной сказочной героине – царевне Несмеяне (сказка «Царевна-Несмеяна») .
Итак, применительно к сказочным элементам поэтические тексты Веры Полозковой являются «семиотически насыщенными» [6, с. 196]. При этом объем (наполнение) сказочных элементов может быть различным: от упомянутых выше сказочных пропозиций, являющихся структурной основой целых текстов Веры Полозковой, до сказочных пропозиций частного порядка ( А я вывернусь, и сбегу, да и обвенчаюсь / С царской дочкой, а царь мне со своего плеча даст …; А что, говорю я, дверь приоткрыв сутуло. Вот терем мой, он не низок, не высок ; Эй, а делать-то что? Слова собирать из льдин? – отсылка к андерсоновской «Снежной Королеве») и одиночных имен сказочных персоналий (так называемых онимов), чье представительство в текстах Веры Полозковой весьма обширно:
Бармалей – смеется хищно, как Бармалей … (см.: «Бармалей» К.И. Чуковского);
Гвидон – Может только петь об Армагеддоне, о своем прекрасном царе Гвидоне … (см.: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина);
Кай – маленький мальчик Кай – то уже совсем не твои дела… Каю девочка первенца родила… Кай давно не верит подобной белиберде (см.: «Снежная королева» Г.Х. Андерсена);
царевна Лыбедь – И если летом она казалась царевна Лыбедь… (см.: древнерусское предание о происхождении полян);
Маленький Мук – …где теперь маленький мальчик Мук… (см.: «Маленький Мук» В. Гауф);
Маленький Принц – Чтоб вынес акушер рябой / Грудного Маленького Принца (см.: «Маленький Принц» А. де Сент-Экзюпери);
Осел, Трубадур, Король, Разбойница – Я могу за Стражу, и Короля / За Осла, Разбойницу, Трубадура… (см.: «Бременские музыканты» братьев Гримм);
Оле-Лукойе – Как лукавый, добрый Оле-Лукойе… (см.: «Оле-Лукойе» Г.Х. Андерсена);
Птица Рух – И поет оно так зловеще, как Птица Рух (см.: «Тысяча и одна ночь», путешествие Синдбада-морехода);
Финист – Ты ведь мне один Финист Ясный Сокол (см.: русская народная сказка «Финист – Ясный Сокол»);
Фома и Ерема – И снова он тебе про Ерему / А ты ему про Фому (см.: народная скоморошья песня);
крошка Цахес – И ты слышишь тост за себя и думаешь – Крошка Цахес (см.: « Крошка Цахес, по прозванию Циннобер » Э.Т.А. Гофмана).
Что касается последнего случая, интерес представляет стихотворение «Детское», где в рамках одного текста совмещены 12 персонажей литературы (сказочного фольклора) и мультипликации: Стража, Король, Осел, Разбойница, Трубадур (Я могу за Стражу и Короля, / За Осла, Разбойницу и Трубадура); Оле-Лукойе (Как лукавый добрый Оле-Лукойе); Фрекен Бок и Малыш (Фрекен Бок вздохнет во сне: «Что такое?» / Ты хорошим мужем ей стал, Малыш (см.: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»)); Лис (Я смогу смириться и ждать, как Лис (см.: А. Экзюпери «Маленький Принц»)); Финист Ясный Сокол (Ты ведь мне один Финист Ясный Сокол), Питер Пэн и Венди (Мы летали бы над землей – Питер Пэн и Венди (см.: «Питер Пэн и Венди» Дж. Барри)). Применительно к этому тексту Веры Полозковой речь может также идти о двух случаях так называемых «полуантропонимов», иначе – имен, которые могут выступать как собственные и как нарицательные (имплицитные поэтонимы – серый волк, Иван-Царевич), но в силу фольклорной природы своего происхождения интерпретируются как нарицательные: Я еще смогу тебе пригодиться – / И живой, и мертвой, как та водица (первая часть реплики – отсылка к сказочному образу серого волка, вторая – к «Сказке о молодце-удальце, мо-лодильных яблоках и живой воде»); Я найду, добуду – назначат казнь, / А я вывернусь, и сбегу, да и обвенчаюсь / С царской дочкой, а царь мне со своего плеча даст… (косвенная перифрастическая номинация героя русских народных сказок).
Сказочные «полуантропонимы» нередки в дискурсе Веры Полозковой: Мне сорок один, ей семнадцать, она ребенок, а я кащей ; К пяти утра сонный айболит накладывает лангеты, рисует справку и ценные указания отдает . Эти примеры правомерно рассматривать в аспекте транспозиции сказочного имени собственного в имя нарицательное. Известно, что «имена существительные собственные переходят в разряд нарицательных, когда они служат для обозначения целого класса однородных предметов и явлений» [3, т. 2, с. 104]. В обоих случаях можно говорить только об окказиональном использовании имени собственного в значении имени нарицательного: акцентуация семантического множителя «возраст» (а не «телосложение») в лексеме кащей ; слово айболит как синоним лексемы доктор .
Итак, сказочный дискурс можно определить как особый культурный пласт, который автор постоянно преломляет в своем сознании. Структурными элементами организации сказочного дискурса выступают целостная сказочная предикативная ситуация, частная сказочная пропозиция, имя-оним , а его основой – «энергетически сильные макротексты», становящиеся концептуально значимым феноменом идиостиля Веры Полозковой.
Список литературы Сказочный дискурс в поэзии Веры Полозковой
- Астафурова Т.Н. Типология коммуникативных стратегий в научных парадигмах//Лингводидактические проблемы межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 16-25
- Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. М.: Книга, 1990
- Грамматика русского языка: в 2 т. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1952 -1954
- Живой журнал Веры Полозковой. URL: http://vero4ka.livejournal.com
- Иванова С.В. Культурологический аспект языковых единиц. Уфа: Культура-Язык, 2002
- Лотман Ю.М. Заметки о структуре художественного текста//История и типология русской культуры. М.: Академия, 2002
- Миронова Н.Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. М.: Язык, 1997
- Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л.: Наука, 1950-1965
- Снегирёв И. Словарь русских пословиц и поговорок. Нижний Новгород: Словесность, 1996