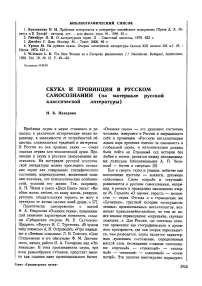Скука и провинция в русском самосознании (на материале русской классической литературы)
Автор: Назарова Н.Б.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14719083
IDR: 14719083
Текст статьи Скука и провинция в русском самосознании (на материале русской классической литературы)
Проблема скуки в науке ставилась и ре шалась в различные исторические эпохи по-разному, в зависимости от потребностей общества, сложившихся традиций и интересов. В России во все времена скука — самая опасная отрава для человеческой души. Про винция и скука в русском самосознании не

клзссиче^
ской литературы можно проследить осозна ние скуки как совершенно специфического состояния, мироощущения, жизненной позиции человека, его психологических особенностей, условий его жизни. Так, например, А. П. Чехов в пьесе «Дядя Ваня» писал: «Во обще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души...» 17].
Практически одновременно с пьесой Н. А. Некрасова «Осенняя скука», привлекающей внимание характерным названием, созданы «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Фауст» И. С. Тургенева, «В чужом пиру похмелье» А. Н. Островского, «Утро помещика» и «Дневник помещика» Л. Н. Толстого, «Село
Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского, начата работа И. А. Гончарова над «Обломовым». В этих произведениях скука, при всем разнообразии оттенков, предстает именно как главная идея провинциального бытия.
«Осенняя скука» — это душевное состояние человека, живущего в России и ощущающего себя в провинции. «Русскую интеллигенцию ждала кара духовная именно за склонность к глобальной скуке, и интеллигенция должна была пойти на Страшный суд истории без любви к жизни, распятая между неподвижными полюсами (обозначенными А. П. Чеховым) — бытом и смертью» [2].
Быт и смерть, скука и уныние, небытие как воплощение пустоты — аналоги, духовные «синонимы». Слова «серый» и «скучный» развиваются в русском самосознании, например, в резком и прозорливо написанном очерке М. Горького «О сером»: серость — мещанство — скука. Отсюда и в горьковских же «Дачниках», грустной истории «неосуществленных» провинциальных интеллигентов, возникает прямолинейно-злобное, но тем не менее вполне справедливое: «серенькие, скучные людишки...». Для России, где смешаны понятия провинции как географического и духовного пространств, где они скорее пересекаются, чем разводятся, скука является характерным душевным состоянием, определяемым массой слов, неожиданно ставших синонимами: «скучный» — «туманный» — «холодный» — «неясный» — «одинокий» — «покинутый». Эти понятия многократно варьируют- ся у А. П. Чехова в связи с его собственным душевным состоянием или характерами других людей, а также с отношением к среде, укладу жизни. Даже не испытывая неприязни к кому-либо, писатель замечает: он «действует как серый круг, который вертят: вял, бледен, скучен». «Серый круг» для Чехова — безнадежная и аморфная замкнутость. Ои не «отпускает», как и сама провинция. Сугубо русское понятие «скука» имеет немало созвучий: и в гоголевском «скучно жить на этом свете, господа», и в лермонтовском «и скучно и грустно». Скука — синоним одиночества, пустоты, а также непонятности, неприкаянности, невостребованности. Это результат промежуточного состояния между столицей и провинцией, между прошлым и будущим, между различными сословиями.
«О власти пространств над русской душой» размышлял и Н. Бердяев, По его мнению, среди причин скуки важнейшей становится величина российских пространств, а в силу этого — удаленность от столиц. Эта нравственно-философская проблема у Н. А. Некрасова в «Осенней скуке» многое объясняет: от имения, где происходит действие, до ближайшего города (который тоже отнюдь не столица) неизвестно, сколько верст, в то время как «в Петербурге, в Английском клубе» все, разумеется, иначе [3, с. 170]. Н. В. Гоголь объяснял смысл жизни в городе, от которого что до столиц, что до границ «три года скачи..,» скукой, в которой только и мог зародиться бредовый образ ревизора. Провинция удалена и замкнута на самой себе. Так, у М. Е. Салтыкова-Щедрина восклицание: «Очаровательный Петербург! ... Душка Петербург!» — раздается в городе, откуда «дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру» [5], Так же томительно и бесперспективно стремились из скучной провинции «в Москву, в Москву» чеховские сестры Прозоровы.
Еще одна причина провинциальной скуки определяется протяженностью времени. У Н. А. Некрасова томительно тянется осенний вечер, подвывает ветер и повторяются вопросы о времени, которое тягостно влачится. В начале пьесы фиксируется «шесть часов без четверти», в финале — «сорок три минуты девятого» [3, с. 189]: три часа, растянутые скукой до размера всей бесцельно прожитой жизни. Дурная погода и скука поставлены в общий логический ряд и в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Следующая, вполне логично сочетаемая с уже названными, причина скуки в провинции — одиночество, воспринимаемое в «Фаусте» И, С, Тургенева как благотворный признак уединения, по-своему приятного, с книгами и не раздражающим мелким дождем за окнами. Затем возникает угроза одиночества после намечающегося трогательного романа, и герой предощущает расставание, в первые месяцы после которого «темна и скучна покажется жизнь» вдали от этой провинции (6], а затем он предчувствует кончину занявшей его чувства женщины, и в логический ряд выстраиваются три понятия: скука — одиночество — тоска.
У И. А. Гончарова в «Обломове» абсурдность, рождаемая скукой провинциальной жизни, получает глобальную метафору: сон. «Застой и сон, вялость и апатия. Ах, если бы никто не трогал жизнь, не вносил в нее шума и треволнений.,.» Ш. «Сон» — образный и смысловой ключ к пониманию всего произведения, идейно-художественное средоточие романа. В Обломовке ничего не происходит. Дремлет усадьба, дремлют ее обитатели, деревья и птицы. Обломовцы и не помышляют куда-то стремиться — зачем?
У А. Н. Островского впервые в одной из ранних пьес представлен конфликт палача и жертвы, мучителя и его «подопечного», четко определен смысл понятия «самодур», «Дикий, властный человек — крутой сердцем». Великий драматург прозорливо связывает такого человека с абсурдистским археоти-пом: «...никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он все свое...» [4]. Именно в драме абсурда скучающий и удовлетворяющий скуку персонаж (а скука там может быть расценена и как тоска, и как следствие одиночества) не слышит и не слушает партнера, хотя страстно жаждет высказаться и получить ответ. Абсурдность никого не слушающих самодуров, расцветающих под пером А. Н. Островского, вполне соотносима с мотивами произведений Ф. М. Достоевского или Н. А. Некрасова. И Фома Олискин, и Ласуков вполне соответствуют категории «самодур», сформулированной А. Н. Островским, ибо их скука находит удовлетворение в бессмысленных муках других (измываются над домочадцами и мучат безответных, речи их полны нелепых требований и упреков). Никто из слуг не может взять в толк, зачем их помещику в осеннюю погоду понадобилась шуба? Или почему, не собираясь ехать на охоту, он требовал порох? Комический аспект непонимания возникает в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина, где диалог с архивариусом вполне может выглядеть цитатой из произведения, написанного столетием позднее: «Понимаешь? Спрашиваем мы... “Понимать не понимаю, а отвечать могу’"». Трагический или драматический аспект непонимания рождается в мироощущении Л. Н. Толстого. Скука, переживаемая поселившимся в поместье молодым Нехлюдовым («Утро помещика»), равна для него тоске, разочарованию, грусти, даже горю. Хозяин хочет произвести усовершенствования жизни крестьян, которые не понимают его усилий и не нуждаются в них. Финалу повести, где герой осознает абсурдность своих мечтаний о порядке, предшествует характерная метафора: «Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше». Абсурдной выглядит реплика чеховского Фирса, сетующего в «Вишневом саде» на «беду», каковой он именует предоставление крепостным крестьянам свободы. Но не абсурдно ли само мироощущение, обратившее на себя внимание Л. Н. Толстого, который еще в «Дневнике помещика» язвительно фиксировал неспособность крестьян, здраво рассуждавших о сенокосе, решать проблему более важную — проблему собственной судьбы; в этой ситуации крестьяне, по приговору Л. Н. Толстого, превращаются в «невежественные бессмысленные единицы». Бессмыслица — по-русски, абсурд — по латыни. Суть явления от языкового разночтения не меняется. Абсурд провинциального бытия, рожденного скукой, рутиной, недвижимостью, всеми признан как диагноз.
Упорядоченность, естественный цикл — вот причина возникающей скуки, Аркашка Счастливцев из пьесы А. Н. Островского «Лес» рассуждает: «Встают в 4 часа, обедают в 10; спать ложатся в восьмом часу; за обедом и за ужином водки пей, сколько хочешь, после обеда спать... Я было поправился и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль: не удавиться ли мне?»
Итак, анализируя классику русской литературы, мы пришли к выводу, что, во-первых, для многих ее представителей проблема скуки, рождаемая духом провинциальности, присуща русскому человеку, воспринимающему такие нормальные качества и условия существования, как регулярность, порядок, стабильность, в русской провинции как аномальные; во-вторых, провинциальная скука — явление вневоз-растное и внесоциальное; в-третьих, перефразировав грибоедовский афоризм, можно с полной уверенностью заявить: «Русскому человеку скучно там, где он есть».
Список литературы Скука и провинция в русском самосознании (на материале русской классической литературы)
- Литературное наследство. М., 1956. Т. 61, ч. 1. С. 239.
- Мережковский Д. С. Чехов и Горький//Грядущий хам. Петербург, 1906. С. 75.
- Некрасов Н. А. Осенняя скука//Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. М., 1983. Т. 6."
- Островский А. Н. В чужом миру похмелье//Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1950.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Губернские очерки//Собр. соч.: в 10 т. М., 1988. Т. 1. С. 27.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. М., Т. 7. С. 32.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 2. Письма. М., 1975. С. 15.