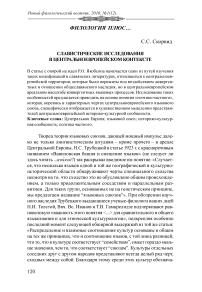Славистические исследования в центральноевропейском контексте
Автор: Скорвид Сергей Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Филология плюс...
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье с опорой на идеи Р.О. Якобсона намечается один из путей изучения таких модификаций в славянских литературах, относящихся к центральноевропейской территории, которые были пережиты под воздействием дивергентных в отношении общеславянского наследия, но в центральноевропейском ареальном масштабе конвергентных языковых процессов. Исследование таких особенностей предлагается проводить на основе понятия «поэтики частного», которая, коренясь в характерных чертах центральноевропейского языкового союза, специфически отображается в художественном мышлении представителей центральноевропейской историко-культурной сообщности.
Центральная европа, языковой союз, историко-культурная сообщность, поэтика частного
Короткий адрес: https://sciup.org/14914203
IDR: 14914203
Текст научной статьи Славистические исследования в центральноевропейском контексте
Творец теории языковых союзов, дающей мощный импульс далеко не только лингвистическим штудиям – кроме прочего – в ареале Центральной Европы, H.С. Трубецкой в статье 1923 г. с красноречивым названием «Вавилонская башня и смешение языков» (не следует ли здесь читать ...языков?) так раскрывал вводимое им понятие: «Случается, что несколько языков одной и той же географической и культурноисторической области обнаруживают черты специального сходства несмотря на то, что сходство это не обусловлено общим происхождением, а только продолжительным соседством и параллельным развитием. Для таких групп, основанных не на генетическом принципе, мы предлагаем название “языковых союзов”». При обозрении научного наследия Трубецкого выдающиеся ученые-филологи наших дней Н.И. Толстой, Вяч. Bс. Иванов и Т.В. Гамкрелидзе подчеркивают равновеликую «важность этого понятия <...> для сравнительного и общего языкознания и для этнической культурологии», подкрепляя особенно последний момент следующей обширной выдержкой из той же статьи: «Распределение и взаимные соотношения культур основаны в общем на тех же принципах, что и соотношение языков, с той лишь разницей, что то, что в культуре соответствует “семействам”, имеет гораздо меньше значения, чем то, что соответствует “союзам”. Культуры отдельных соседних друг с другом народов представляют всегда целый ряд черт, сходных между собой. Благодаря этому среди этих культур обознача- ются известные культурно-исторические “зоны”, например в Азии зоны мусульманской, индостанской, китайской, тихоокеанской, степной, арктической и т.д. культур. Границы всех этих зон взаимно перекрещиваются, так что образуются культуры смешанного или переходного типа. Отдельные народы и части народов специализируют данный культурный тип, внося в него свои специфические индивидуальные особенности. В результате получается та радужная сеть, единая и гармоничная в силу своей непрерывности и в то же время бесконечно-многообразная в силу своей дифференцированности»1.
В качестве характерного примера собственно языкового союза на территории Европы (что немаловажно, включающего и часть Славии) Трубецкой привел четыре балканских языка, а именно болгарский, румынский, албанский и новогреческий, которые, «принадлежа к совершенно разным ветвям индоевропейской семьи <...> объединяются друг с другом целым рядом общих черт и детальных совпадений в области грамматического строя»2. С тех пор именно применительно к Балканам проблематика ареальных связей славянских языков с соседними неславянскими была разработана с позиций теории языковых союзов наиболее комплексно. Что же до экстраполирования языковых отношений в сферу культуры, здесь Трубецкой в подтверждение вывода о необязательном соответствии культурного типа родственным связям языков и о приоритете ареальных связей ссылался на «народ венгерский (или мадьярский)», замечая: «Как известно, языковые родичи венгров – вогулы и “остяки” (в северо-западной Сибири) – в культурном отношении не имеют с венграми решительно ничего общего»3. Сообразно с этим осуществленное Трубецким в 1933 г. сопоставление фонологической системы еще одногоI родственного венгерскому финно-угорского языка – мордовского – с системой русского языка увязано было, как это отмечается в очерке названных авторов, с «географическим соседством и близостью ряда культурных черт (мелос, костюм, жилище и др.) их носителей»4.
Развивая идею Трубецкого об асимметрии ареальных и генетических связей собственно языков, Р.О. Якобсон в докладе на IV Международном конгрессе лингвистов в Копенгагене (август 1936 г.) Sur la thйorie des affinitйs phonologiques entre les langues5 констатировал: «Зачастую сродственные черты, сближая соседние неродственные языки, расщепляют языковые семьи. Так, область русского (включая сюда белорусский и украинский) и польского языков противополагается области чешского и словацкого языков отсутствием квантитативной оппозиции гласных и составляет в этом отношении одно целое с большинством финно-угорских и тюркских языков европейской, то есть преду- ральской, части России, тогда как некоторые другие языки финно-угорской и тюркской семей обладают этим противопоставлением: например, венгерский в этом отношении принадлежит к тому же кругу языков, что и чешский и словацкий»6. Тем самым Якобсон впервые включил венгерский язык в состав общности, за которой к нашим дням закрепилось название «центральноевропейский языковой союз» (далее – ЦЕЯС). Наряду с этим можно с осторожностью допустить, что также Трубецкой, иллюстрируя на примере венгров принадлежность народа к иному типу культуры по сравнению с другими народами, родственными в языковом отношении, подразумевал вхождение венгров в некое этнокультурное пространство, которое может быть предварительно обозначено условным рабочим термином «центральноевропейская историко-культурная сообщность» (далее – ЦЕИКС).
Вопрос истории выработки понятия ЦЕЯС, как и его именования, а также проблема его границ и набора «союзообразующих» признаков, в первую очередь с учетом участия в нем славянских языков, потребует отдельного освещения. В данной статье я подробнее коснусь более общей проблемы соотношения ареального и лингвогенетического начал в языках и (вербально выраженной) культуре славян, так или иначе вовлеченных соответственно в ЦЕЯС и в ЦЕИКС. Отправными точками при этом будут служить суждения, во-первых, вновь Якобсона-лингвиста в цитированном выше докладе 1936 г., а во-вторых, Якобсона-литературоведа в работе The Kernel of Comparative Slavic Literature 1953 г.
Аргументируя – вслед Трубецкому – необходимость в понятии языковых союзов наряду с понятием языковых семей, Якобсон взвешенно заключает, что «сходство в структуре независимо от генетических отношений <...> не противостоит “изначальному родству” языков, а накладывается на него». В этом смысле должно быть воспринято и следующее его заявление: «“Изначальное тождество”, которое вскрывает сравнительная грамматика, является не более чем состоянием, возникшим в результате конвергирующего развития, и никоим образом не исключает одновременных или последующих расхождений». Заслуживает внимания то, что конвергенция развития, метафорически описываемая в докладе взятым у Гете словом Wahlverwandschaft ‘родство душ’ (букв. ‘родство по выбору’), обнаруживается автором «особенно в отборе конструктивных принципов, предназначенных остаться незатронутыми» (при всех дивергентных изменениях)7. Таким образом, «генетическое тождество» семьи языков или группы языков внутри семьи Якобсон толковал как определенный тысячелетиями выработанный языковой инвариант, подверженный далее варьированию в условиях раз- личных языковых союзов. Сообразно этому ученый категорически отвергал «рассмотрение тех или иных фактов в рамках одного языка или – шире – в рамках одной языковой семьи», являющееся «результатом действия духа сепаратизма; достаточно <...> поместить эти факты в более широкие рамки, как тотчас же мы обнаруживаем в них действие духа взаимообщения». Например, «разделение славянского мира на политонические (сербохорватский и словенский), монотонические со свободным количеством (западнославянские языки) и монотоничес-кие со свободным ударением (болгарский и восточнославянские) языки не может быть полностью понято, если мы не примем во внимание наличия трех разных союзов, в которых участвовали указанные славянские языки»8, – писал он.
По сути, на тех же основаниях Якобсон в обширном исследовании 1953 г. предлагал строить сравнительное славянское литературоведение. Анализируя результаты развернувшейся в 1920–30-е гг. научной дискуссии о принципах и перспективах сравнительно-исторического изучения славянских литератур как «отдельной, внутренне целостной общности», он констатировал, что «независимо от того, рассматривается ли языковое родство как единственная общеславянская отличительная черта или нет, решительно все сходятся в том, что это наиболее отчетливое проявление славянского единства»9. Исследователь дистанцируется от преувеличенного славянофильского представления «о специфически славянском уме, сходстве ментальности, поведенческих стереотипов, настроений, темперамента, философских убеждений и религиозного чувства» (вплоть до таких черт, как чистосердечие или презрение к бабе ) и цитирует тезис Трубецкого «Язык, и только язык, связывает славян»10, который он применяет и к дискутируемой славянской литературной общности, а также к сравнительному славянскому литературоведению. «Его герой – это общеславянское наследие и его воздействие на все славянские литературы», – так суммирует Якобсон итоги данного им в предыдущих разделах работы анализа основных аспектов литературной славянской компаративистики, которые выдвигаются автором в качестве областей, требующих в будущем более подробного изучения. Это следующие аспекты:
-
- «Отпечаток, накладываемый общеславянским языковым наследием и его дальнейшими модификациями – как конвергентными, так и дивергентными – на языковую форму различных славянских литератур; общие формальные приемы, своим существованием обязанные этим языковым предпосылкам, и особенно сходства и различия в адаптации славянскими литературами интернациональных художественных стилей».
-
- «Общеславянские поэтические формы, унаследованные и модифицированные устными традициями различных славянских народов».
-
- «Общеславянская письменная литература и ее роль в дальнейшем развитии славянских литератур и литературных языков».
-
- «Значение этих трех типов общего наследия (1. Близкое и все еще чувствующееся родство славянских языков, 2. Общеславянская устная традиция и 3. Древнецерковнославянский язык и литература); межславянское взаимопроникновение литературных языков и литератур и две силы, лежащие в основе этого взаимопроникновения, – греческая и латинская культуры; относящаяся сюда же роль гибридных образований в истории славянских литературных языков и литератур; тенденции к межславянской и панславянской интеграции в славянских литературах со времен раннего Средневековья и реакция против такого рода тенденций»11.
Нетрудно заметить, что безусловно важное место в этой далеко идущей исследовательской программе отводится изучению модификаций имеющего языковые основания общеславянского наследия, включая и дивергентные процессы, которые, вероятно, тоже будут соотносительны с процессами межславянской ареальной языковой дивергенции. Ниже я прокомментирую с учетом сказанного освещение ученым некоторых сторон перечисляемых им аспектов, дополняя его наглядные примеры также своим материалом, большей частью чешским, каковой – особенно при соотнесении его с резко контрастным русским – позволяет максимально высветить вектор (западно)славянского участия в ЦЕИКС.
Авторитетный исследователь славянского стихосложения, Якобсон рассматривает в своей статье в первую очередь «влияние языкового материала на поэтическую форму» у славян, начиная с фольклора и кончая поэзией XIX–XX вв. Уже в связи с этим, однако, ученым выдвигается условие, чтобы «на фоне многочисленных фундаментальных сходств, которые продолжают объединять славянские языки», создавая «предпосылки для охвата метрических моделей различных славянских языков в рамках единой славянской сравнительной метрики», анализировались и различия между этими языками «с точки зрения отношений между словесным ударением и словоразделом, а также между словесным ударением и долготой гласного», которые имеют ареальный характер и дают основания «для разбиения структурного единства славянских языков как целого и для объединения их в небольшое число типологических групп»12. То, что это разбиение вызывает реакцию также межкультурного характера, Якобсон иллюстрировал на примере неадекватного, по личной его оценке, восприятия русского стиха чехами и чешского стиха русскими как однообразного и монотонного.

Во втором разделе его работы, посвященном общеславянской устной традиции, отмечается, между прочим, что в XIX в. межславянский «взаимообмен в области народнойIпоэзии <...> послужилIважным 1стимулом к развитию литературной формы» у А.С. IПушкина<(«Песни западных славян»), Ф.Л. ЧелаковскогоI(«Эхо русских песен»), а Iтакже польских поэтов «украинской школы», однако во всех этих случаях «инородная славянская модель подвергается переоценке под воздей-<ствием местной фольклорной модели1(подчеркнуто мною. – С. I С. )». Так, подобно Пушкину, работавшему, кроме написанной Iпрозой мистификации П. Мериме, с образцами сербской•народнойIпоэзии из собрания Вука Караджича, «Челаковский Iинтерпретировал отсутствие жесткого Iизо силлабизма в русских фольклорных формах как отказ от изосиллабических стоп вообще. Поэтому в некоторых своих. стихах а la Irusse он Iобратился, Iв противоположность обычной чешской литературной Iнорме, к более свободной дистрибуции ударений и Iк чистому силлабизму строки в качестве основной константы; иIэтоIполностьюIсо-гласуется с чешской I(и, добавим, общеславянской) устной традицией»13.
В подтверждение данного тезиса ЯкобсонIцитировал■начало стихотворения Ф.Л. Челаковского «Великая панихида»■( Velikб panichida ). При этом, Iпозволю себе добавить, заслуживаетIвнимания, что «чистый силлабизм»1Челаковского Iникак Iне отразили в переводах1 его :стихотво-рения на русский язык Iни младший<современник поэта Н.Н. Берг в сборнике «Поэзия славян» 1871 г.14, ниIтем более живший на век позже Н.Н. Асеев в «Антологии чешскойIпоэзии» 11959 г.15■(первый использовал необычный для чешского стихосложения анапест, второй – дактило-хореический размер). Ср. начальные десятьI (у Берга девять) строк:
|
Ф.Л. Челаковский 1 |
Н.Н. Берг |
Н.Н. Асеев I |
|
Ne krupobitнm, ani lijavcem |
То не градом побиты, |
|
|
na љнrйm poli obilн polehlo, |
ГВ поле широком ряды колосьев |
|
|
to zatopeno, to rozdrceno: – |
1И затопило и изрубило: |
|
|
ach! pode Moskvou, |
1Полегло под Москвою, |
|
|
Москвою, |
||
|
1Там, на равнинах, |
||
|
Много воинства храброго |
||
|
русского, |
||
|
ruskйho, |
и французского, |
|
|
Преклонясь головой |
силы французской Пало навеки на землю сырую, – 1 |
|
|
ku syrй zemi hlavou pшilehlo, |
ко сырой земле, I |
|
|
Переколотого, перебитого, |
Их изрубило и перебило |
|
|
i pшнvalem to kalenэch koulн. |
Что мечами, штыками и копьями, Что картечью, гранатами, пулями. |
Сталью мечей |
|
штыков остриями, |
||

Продолжение сравнения высвечивает дальнейшие, одновременно – по Якобсону – конвергентные и дивергентные тенденции при освоении общеславянского наследия Iне только в области поэтической формы. Так, опущенные (случайно?) Бергом строки [Vy] dobrйho cara zбstupcovй! (букв. ‘доброго царя защитники’) и ... za drahou obмt vaљнch •ivotщv (букв. ‘за драгоценную жертву ваших жизней’) Асеев характерным образом1 переводит: Вы, оборона великой державы! и За ваши жизни, что отданы в жертву ... Вообще там, где у Берга используется возвышенная или патриархальная лексика, напр., панихиду свершили великую ; мы одну вам свечу всем затеплили , Асеев прибегает к средствам более нейтральным, а порой и к клише: Мы отслужили вам панихиду ; Мы лишь одну вам свечу водрузили (у Челаковского здесь русизм postavili , который не подхватывает даже Берг). Зачем, однако, русские в 1812 году Москву – как свечу в церкви – поставили/затеплили/водрузили? У1Челаковского, во-первых, vбm synщm milэm na usmншenн , что Бергом Iпередано семантически и стилистически точно: милым детушкам на■спокой души (у Асеева вам, сыны дорогие, на утешенье ), аI во-вторых, vrahщm naљнm na pokoшenн , букв. ‘врагам1 нашимI на /у/смирение’,ггде переводчики почти солидарны: на диво, на страх – врагу лютому 1(Берг), врагам же нашим – на устрашенье (Асеев). На этом фоне факт Iигнориро-вания и Бергом, и Асеевым стихотворного размера'оригинала предстает особенно значимым.
Ф.Л. Челаковский подражал русскому фольклору, как его в духе патриархально-идиллической «славянской взаимности» воспринимали чехи в первой половине XIX в. Перевод Берга отразил славянофильский взгляд на поэзию славян как «народную» в духе русских представлений ।о народности уже во второй половине этого столетия.IНаконец, в переводе Асеева говорят сами за себя размер «Варшавянки» и строки наподобие Вы, оборона великой державы! вместо ‘защитники доброго царя’, причем здесь, кроме смены исторического контекста, ощутимо и смещение (лингво)ментального свойства: у1Челаковского – великая по масштабам, но все же домашняя панихида, у Асеева – апофеоз подвига!
«Самобытные художественные ценности», по Якобсону, славянские мастера слова черпают также в специфических общих чертах грамматической системы (морфологии, синтаксиса) славянских язы- ков – например, таких, как глагольный вид, наклонение, залог. Действительно, сквозь призму глагольных видов славянами воспринимается и посредством их выражается динамика действия, разворачивающегося в художественном произведении в соответствии с авторским замыслом. Исследователь блистательно иллюстрировал это на примере видоупотребления в «Медном всаднике» А.С. Пушкина и его польском переводе, который выполнил Ю. Тувим16. Совершенный вид в обоих текстах адекватно служит для описания отчаянного бунта Евгения против неподвижной – а если и движущейся, то без ограничения каким-либо пределом – статуи Петра Великого. Только в сцене непосредственно столкновения героя с Петром, согласно ученому, переводчик «потерял всякий контакт с оригиналом, и вместо пушкинской эпической ноты мы слышим I лирическую – Тувима: “Cуї, budowniku mуj miedziany? / Cуї, cudotwуrco?” – sykn№і. ziy. – I/ “Juї ja ciк...” <…> Это не пушкинский Евгений: тот не спрашивает <…>, не иронизирует <…>, не выпячивает свое ego (ср. ja ciк) и не оставляет ничего недосказанного. <…> Евгений не говорит ровным счетом ничего о своей роли в возмездии, ничего и о самом возмездии. Он просто прилагает к “чудотворному строителю” ограничительное наречие ужо». Критикуя в этом месте в остальном «впечатляющий» перевод, Якобсон сожалеет: «Встреча Евгения с царем могла бы быть передана по-польски с той же точностью…» Но могла ли? Существует ли в польском, входящем в центральноевропейский союз языков с характерным для них стремлением к персональности, «такая безличная конструкция с нулевой связкой», которая «устанавливает ' окончательный предел»?
Привлечем к сравнению чешский перевод Б. Матезиуса 17 , где безличной конструкции с «ограничительным ужо » соответствует безличная же, но все же более открытая и многословная эллиптическая конструкция с опущенным глаголом и частицей, имплицирующей угрозу ( vљak na I tм I taky 1[dojde] ‘настанет и твой черед’). Видоупотребление у Матезиуса также близко пушкинскому – с одним лишь отличием: переводчик большей частью переносит описание действия из прошедшего времени (Прош) в исторический презенс (ИПз), который Пушкин использует не так широко, поскольку в русском здесь оппозиция видов нейтрализуется (превалирует НСВ). Ср.:
|
--------------- ^" ^^^ ^ ^^^ - ^^ "^ --------------- |
|||
|
i 1 J |
F |
||
|
— |
ie* bie™i#e hnh |
4.^* |
|
|
*i™t—* HW |
Ik ie-ь |
*** b-*l*^HJil* |
KI.UN |
|
иь.™-ме^ |
fTLihm |
* nete a# # *114 w Hi*1 i**^1 !t*M^ H^ |
tk ** |
|
Lj^etiReeb ^ |
IH l*i |
.IMf 4-4 «"*1* •* |
#И #b-* |
|
LXIM |
-Л ■. *..... ■ - |
re.e-ii |
|
|
' И ^i ^Ы^^^ЛебЯкк ПИ^*^б |
rk 1^- |
*ь -н» иьтте» |
;■ * |
|
h^w — *n .- |
1 H r*™ |
M** ■№ huD-ii |
|
|
e.*— ц ■■ 1 NmmUW |
1 H !►* lb |
-Hl ei haieie llleilil |
FW** |
|
Hr# i ll i -H—■ |
ri# #■#•■— ■ *■ |
te *n |
|
|
M i-#ii.№»л nee- ыч. |
1* * .R 1 Г* |
i ■ 1131 |
|
|
кеш. |
|||
|
^1Ш UHlUl . ЧШИ |
|||
|
• ■ W, • M ‘Г1 ■ I l ■# |
-*^*R*. Ы |
I NhMZl Mi |
|
|
diawi цц^1 .Lreme. |
re <►*11 |
t— ^i w e—। ►* |
ie mi |
|
*Wi He rye-*-r a^ |
etii*# Hw-ь-* *- |
UL^e |
|
|
^■■^■newi g и на |
■ ■—r i ■ di ™i Ive- |
м» m |
|
|
IK Ъ *-» |
|||
X V«IC|H1|i.UIUMMr. 'Пи Ци «ТТГ^ГуРКШ RC_^*.HU ll^pniMoIllW ЭСПС1е41«ЛНС|Сф1П<КИИ|1 llpCX* leOnyHRW H|h.....* ■ Г-Н. I и1ЖС В [ф)ь im сплине юте......CH । и*.ним......e^ui^H к iiwy РЧQB4iu*;,i ih>- icmu ............. phhii ингбеимлини* лс№т»нй ije iHmmiMj )■ ipt^n*'I ini i'u-pinS I h 6$Aiif4i*Wtb numrU* I epo# и^рилм, rx ten imr пипкП1рап|| -шин Ikhu шпмп ri - uh ■ fly........ . к mtwiuk" cm.Cp
|
^-— |
9mL ■■ |
||
|
H.^.* — *4^^ |
"л- h IL-. |
i wMJM ъЬьм*н |
|
|
# -♦ "■ “* ^* ■■M ^W# I—1 |
*■ I* ■ ы ri |
||
|
к#<^ь*#ен |
ill e Hr* |
||
|
। -i— к ■*— —— |
tfi* e^ |
1 #4* HlO# *" ^ h *n #м * шМ -w |
■ ■ W4i |
|
*■ на Hi edWd №11 |
|||
|
► ^■-i в^^^мА ^н |
me нм 1Н» IH— |
w#^-ее* #■*— Hiabfc 1 RH RHltl W |
11 Fil 11*11 |
|
C !■! ии.е-ер^ |
|||
|
Нм 1 i ■ |
me 1*ч |
k»* 1* |
li mi |
[козниннв. ■ ргг >Mirt -фстН»................ikiw- гаишня Ill'll HL II BHCHjpWn, '1*1 lipcKHHtni'-rUMW^H! КЯРШШ IU> Чешскому художественному тексту – естественно, также прозаическому – издавна была и ныне остается присуща весьма своеобразная динамика: суммарно более резкое и всеобъемлющее в сопоставлении с русским текстом разграничение действий и ситуаций частных (актуальных, детальных) и общих (абсолютных, глобальных), что выражается и в чередовании глагольных видов (актуализирующего СВ и абсолютизирующего НСВ), и широким набором прочих языковых средств. Иллюстрировать сказанное на современном чешском материале позволяет проза Богумила Грабала. Ср. фрагмент его рассказа-эссе «Волшебная флейта» с параллельным русским переводом18: Повторяющиеся действия в оригинале обозначаются презенсом глаголов то совершенного, то несовершенного вида: nмkdy kdy• vstanu – СВ, но тут же kdy• procitбm z mrбkot – НСВ; tak se na sebe nedнvбm – НСВ, но v oинch zahlйdnu vиerejљн opilstvн – СВ; tak sedнm ' u stolu – НСВ, но nмkdy se mi prolomн ruce – СВI(в русском переводе, кроме единственного случая, всегда НСВ). Совершенным видом здесь, как и в историческом презенсе, говоря словами Якобсона, «имплицируется ограничение», история также и здесь наполовину «рассказана в суматохе задыхающихся перфективов» – так, что описываемые действия оказываются полностью замкнуты на субъект. В русском подобное возможно разве только при описании завершенного действия в ситуации, предполагающей продолжение, как в случае kdy• si natбhnu kalhoty, jdu a holнm se = натянув (// когда натяну) брюки, плетусь бриться. Вместе с тем в чешской фразе тот факт, что действие замкнуто на субъект, добавочно подчеркивает обязательный возвратный компонент si, аналог которого в русской фразе выглядел бы излишним (ср. при этом: v oинch zahlйdnu vиerejљн opilstvн, но в своих глазах я замечаюIследы вчерашнего хмеля). Характерной особенностью структуры чешского текста является, однако, не само по себе присутствие «задыхающихся перфективов» там, где это немыслимо для русского языка, но то, что рассказчик свободно чередует их с глаголами НСВ, сигнализирующими действия, которые, по словам Грабала в «Слишком шумном одиночестве», сказанным о книгах и мыслях, содержащихся в них, «берутся снаружи, всходят подле человека, как тесто в квашне» (jsou vedle иlovмka jako nudle v bandasce, букв. ‘как лапша в бидоне’), илиI «обращены куда-то вовне» (ukazujн jinam a ven). Интересно, что такой чешский глагол НСВ может иногда в русском соответствовать глаголу СВ. Ср. начало названной книги Гра-бала (с переводом19): Tшicet pмt let lisuji starэ papнr a knihy, tшicet pмt let se umazбvбm literami <...> jsem d•bбn plnэ •ivй a mrtvй vody, staин se maliиko naklonit a Тридцать пять лет я прессую старую бумагу и книги, тридцать пять лет пачкаюсь типографскими знаками <...> я сосуд с живой и мертвой водой, сто- teиou ze mne samй pмknй myљlenky <> a tak vlastnм ani nevнm, kterй myљlenky jsou moje a ze mne a kterй jsem vyиetl <...> proto•e jб kdy• мудрые мысли <...> я даже не знаю, какие мысли мои, то есть из меня, а какие я вычитал <...> ведь я, иtu, tak vlastnм neиtu, jб si naberu do zobбиku krбsnou vмtu a cucбm ji jako bonbуn, jako bych читая, можно сказать, не читаю, а набираю в клювик красивую фразу и смакую, как конфету, будто рю- popнjel skleniиku likйru tak dlouho, a• ta myљlenka se ve mnм rozplэvб tak jako alkohol, впитается в меня, подобно алкоголю, до тех пор она всасывается, пока не только проникнет в мозг и сердце, но просочится по кровеносным сосудам до mэm mozku a srdci, ale hrkб mэmi •ilami a• do koшнnkщ cйv. Глагол совершенного вида в оригинале Грабала один (он подчеркнут пунктиром), в русском же здесь наиболее естествен глагол НСВ, хотя вероятен и вариант а наберу... – и смакую...; наоборот, перевод стоит... наклониться – и из меня текут... или до тех пор она всасывается, пока... (не) струится... не соответствовал бы русскому узусу. В довершение следует отметить, что даже этот короткий отрывок чешского текста насыщен разного рода актуализаторами и детализирующими элементами в позиции актантов, избыточными, а то и невозможными в естественной русской речи, тяготеющей к обобщениям. Это все тот же возвратный компонент si, а также личные, притяжательные и указательные местоимения, ср.: jб si naberu do zobбиku krбsnou vмtu a cucбm ji... ~ набираю/наберу (?себе) в (?свой) клювик красивую фразу и смакую (ее)...; a• je nejen v mэm mozku a srdci, ale hrkб mэmi •ilami ~ пока не только проникнет в (?мой) мозг и сердце, но просочится поI(*моим) сосудам...; a• ta myљlenka se ve mnм rozplэvб ~ пока (?эта [какая?]) мысль не впитается в меня. Тенденция к детализации, иллюстрированная пока лишь на примере чешского, несомненно, свойственна – при неполном сходстве манифестирующего ее спектра признаков – вообще языкам центральноевропейского союза, диаметрально расходясь с наблюдаемой в русском языке общей тенденцией к абсолютизации (впрочем, в отношении проявления конкретных признаков детализации ЦЕЯС «открыт» как на запад, так и на восток). Выражение ограничения хотя бы даже повторяющихся, но «отдельных» действий глаголами СВ есть, конечно, чисто (западно)славянская черта, при этом центробежно, в направлении, скажем, от чешского к польскому убывающая, но и в русском языке при особых условиях контекста все еще возможная20. В цитированной выше фразе из романа Б. Грабала польский переводчик П. Годлевский21, как в русском издании автор данной статьи, пожертвовал игрой видов (biorк piкkne zdanie do buzi i ssк je jak cukierek..., 2х НСВ), хотя теоретически также он мог бы сохранить в начале глагол СВ (nabiorк); в следующей же фразе романа: Tak za jedinэ mмsнc prщmмrnм slisuji dvacet metrбkщ knн•ek, где1СВ в оригинале выражает регулярно реализуемую способность к совершению действия, это как для польского, так и для русского языка решительно исключено (ср. НСВ в польск. Tak oto w jeden miesi№c prasujк przeciкtnie dwadzieњcia kwintali ksi№їekIи рус.1ИIвот■так я за один месяц прессую в среднем двадцать центнеров книг). Можно ли тем не менее повторить за Якобсоном, что извлекаемые из видовой системы «самобытные художественные ценности <...> едва ли воспроизводимы в романских или германских языках»? Действительно, немецкий язык вида глаголов не знает, зато он развил префиксальную систему, вполне корреспондирующую в масштабе ЦЕЯС с глагольным видом в славянских языках. Вот как звучит отрывок фразы Грабала jб si naberu do zobбиku krбsnou vмtu a cucбm ji jako bonbуn... в немецком переводе П. Захера22: ich picke mir nur eine schцne Sentenz heraus und lutsche daran wie an einem Bonbon... Глагол herauspicken с отделяемой приставкой создает более точное представление о ‘выхватывании клювом’, скорее быстром (хотя идею быстроты навевает только контекст), нежели «бескрайнее» biorк ‘беру’ в польском. Продолжая начатое сравнение по линии индивидуализации и детализации образа, обратим внимание на другие служащие этой цели элементы. Поразительный параллелизм здесь обнаруживают, с одной стороны, возвратное si в чешском и нем. mir (при отсутствии такого уточнения адресата в польском и русском переводах), а с другой – одинаковое в чешском и польском заполнение позиции актанта при глаголе cucбm / ssк местоимением с приблизительным аналогом в немецкой предложной конструкции ich lutsche daran и факультативное употребление местоимения в русском при смакую (ее). Интересен с этой точки зрения также конец фразы, по-чешски: jako bych popнjel skleniиku likйru tak dlouho, a• ta myљlenka se ve mnм rozplэvб... a• je nejen v mэm mozku a srdci, ale hrkб mэmi •ilami...; по-польски: jakbym s№czyi kieliszek likieru, tak diugo, їe aї w koсcu ta myњl rozpiywa siк we mnie... aї w koсcu nie tylko jest w moim mуzgu i sercu, lecz pulsuje w mych їyiach...; по-немецки: ich schlьrfe daran wie an einem Glдschen Likцr, bis der Gedanke in mich ьbergeht... bis er mir nicht nur im Gehirn und Herzen steckt, sondern auch noch alle meine Adern durchbraust... Помимо примечательного совпадения притяжательных местоимений (в немецком в одном случае выступает личное в дативе), следует отметить, что соответствием чешского и польского местоимения ta с закономерностью предстает немецкий артикль. Указанные элементы в чешских (польских, немецких…) текстах суть не просто языковые средства, служащие для актуализации и детализации действия, различных его участников и обстоятельств, но, как нам кажется, приметы дробного членения в сознании пишущего – и, естественно, говорящего – цепочки событий, состоящих словно из неких микроситуаций. В художественных произведениях чешских авторов это нередко бывает стилеобразующим моментом: так, например, Б. Гра-бал просто «парцеллирует» действительность. Это можно подтвердить выдержкой из той же «Волшебной флейты» – фразой, где звучит иной, нежели в «Медном всаднике» А.С. Пушкина, более индивидуализированный и детализированный протест простого человека против грозной внешней силы: [vI Kaprovce stшнkala vodnн dмla:a smetala chodce pod auta...] francouzskб berliиka a osmdesбtiletб staшena, kterб volala: Kdo mi zaplatн ten promбиenэIskvostnэ mщj ko•нљek?1Ср. варианты перевода: [на Капровой извергали струи водометы, сметая под машины пешеходов...] и восьмидесятилетняя старуха с костылем взывала (нейтрально; экспрессивнее и – канадский костыль, и восьмидесятилетняя старуха, взывающая): 1 Кто мне заплатит за эту мою промокшую чудесную шубку? // Кто заплатит за эту мою промокшую... // Кто мне заплатит за мою промокшую... // Кто мне заплатит за промокшую... // Кто заплатит за мою промокшую... Авторский гендиадис francouzskб berliиka aIosmdesбtiletб staшena, конечно же, не уникален: русская литература – точнее, поэзия – также богата примерами этой фигуры. Ср. в стихотворении М.И. Цветаевой «Психея»: Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин, / Пунш – и пенковая трубка / Пышущая. Пунш – и лепет / Бальных башмачков по хриплым / Половицам. И – как призрак – / В полукруге арки – птицей – / Бабочкой ночной – Психея!’Ноtу Грабала это дробное видение происходящего насквозь пронизывает прозаическую фразу, кульминируя в завершающем вопросе, где все партиципанты ситуации определены местоимениями (притом ko•нљek ‘шубка’ даже дважды). Та же аккумуляция местоимений в первом из вариантов перевода этого вопроса на русский язык усиливает – несоразмерно в сравнении с оригиналом – его экспрессивность и дейктичность, а убывание местоимений уменьшает эти свойства, делая высказывание более естественным. Впрочем, максимально естественно по-русски похожий возглас вообще звучал бы так: Что же это (делается)?! Шубу такую дорогую (вконец) испортили! Для сравнения можно привести близкий контекст из очерка Н.С. Лескова «Обуянная соль»:23 Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила? Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи – определить не могу; может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы. Судья стал допрашивать портного – тот сразу же во всем повинился: <…> – Виноват, пропала шуба. – А сколько, по-вашему, шуба стоила? Портной не стал вилять и говорит: – Шуба была хорошая. – Да сколько же именно она могла стоить? – Шуба ценная... Словом – молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал: «по указу», и определил I портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего. Присоединение притяжательного местоимения к русскому существительному нередко окрашено эмоционально, как далее у Лескова: <...>и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми... Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и 1 детьми-то что делается?.. У русского писателя уточнение ‘моя шуба’ подразумевает чувство вины субъекта24; напротив, у Грабала в возгласе старухи с костылем ‘моя шубка’ выступает символом достоинства отдельной личности. «Поэтика частного» – так могла бы быть охарактеризована специфика центральноевропейских художественных текстов, обусловленная общими структурно-языковыми моментами. Характерно, 1что с позиций этой поэтики в пределах названного ареала осуществляется рецепция русского художественного текста при переводе, нередко с неизбежностью неадекватном. Проанализируем для образца переводы одной из самых «индивидуалистических»iпесен В. Высоцкого – Я не люблю... – на чешский, польский и немецкий языки25. Декларирование выступающим от первого лица автором человеческого права на частную жизнь (Я не люблю, когда мне лезут в душу, / Тем более, когда в нее плюют) в оригинале органично сочетается с «обобщенно-личным» утверждением идеалов рыцарской чести, доблести и милосердия, цельности и глубины натуры и свободы самовыражения. В. Высоцкий достигает подобного обобщения, опуская не только актанты (AШ), но порой и сказуемое (PШ) Iтам, где центральноевропейские языки опустить их не позволяют. Все эти авторские «лакуны» вынуждены были восполнить и недостающие члены выразить переводчики текста на чешский (М. Дворжак), польский (М. Зимна) и немецкий (М. Ремане), например: [1] Я не люблю, когда наполовину… (AШ, PШ) ~ чешск. kdy• nмkdo nмco napщl udмlб ‘когда кто-то1что-то наполовину■сделает’, глагол СВ! (в польском и немецком неточно); [2] Я ненавижу сплетни в виде версий <…> / Или – когда все время против шерсти, / Или – когда железом по*стеклу. (AШ, PШ) ~ чешск. Nesnбљнm1љeptandu a dlouhй prsty <…> / kdy• nмkdo jezdн rukou proti srsti, / kdy• nмkdo skшнpe o sklo •elezem ‘когда кто-то водит рукой против шерсти, когда кто-то царапает стекло железом’; польск. Nie lubiк, gdy pod wios prуbuj№ giaskaж, / I gdy rysami ozdabiaj№ szkio ‘когда пытаются гладить против шерсти и когда царапинами украшают стекло’; нем. So wie ich Tratsch in allen Formen hasse <…> / als kratz’ ein Messer ьber Glas, als lasse / ich streicheln mir das Fell gegen den Strich ‘как будто я царапаю ножом по стеклу, как будто я позволяю гладить себе шкуру против шерсти’; [3] Я не люблюI уверенности сытой, / Уж лучше пусть откажут тормоза! (AШ) ~ чешск. Nemбm rбd teplниkoIa prбzdnй snмnн. / Radљi si spбlнm za patami most ‘лучше я сожгу за собой мост’; нем. Da ich nicht satte Sicherheit begehre, / mag’s sein, daЯ meine Bremse mal versagt ‘может случиться, что мой тормоз откажет’ (в польском неточно); [4] Я не люблюI насилье и бессилье, / Вот только жаль распятого Христа. (AШ) ~ чешск. I bezmocnost, iI nбsilн si hnusнm. / Jen mi je lнto Krista na kшн•i; польск. Nie lubiк bezsilnoњci i przemocy. / Tylko Chrystusa mi na krzyїu їal; I нем. Gewaltlos ist Gewalt zwar nicht zu zьgeln, / doch mir ist’s gleich... nur Christus tut mir leid – везде ‘мне жаль’, и при таком выборе предиката (нем. leid, чешск. lнto, польск. їal) выразить это чувство, не определив его субъект, ни один из них не позволяет! Ср. также перевод известной строчки Б. Окуджавы А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков… Я. Ногавицей на чешский: AIlнto mi je, •e u• po Moskvм nejezdн dro•kбшi...26 В центральноевропейских языках таким логически небессубъектным предикатам противостоят другие, имманентно безличные. Ср., например, реакцию Швейка в начале романа Я. Гашека на известие о смерти эрцгерцога Фердинанда: «Jб znбm dva Ferdinandy. <...> Vobou nenн •бdnб љkoda». :Вот как последнюю фразу передают переводчики романа на немецкий (Г. Райнер): Um beide is kein Schad, на польский (П. Хулька-Лясковский): Obu nie ma co їaiowaж; по-русски же в переводе П.Г. Богатырева она звучит: Обоих ни чуточки не жалко. ОбразноI можно сказать, что специфика центральноевропейского текста, включая художественный, обусловливается в немалой степени разграничением ситуаций, с одной стороны, общих, абсолютизированных, когда «обоих (вообще)Iне жалко», а с другой – частных, детализированных, когда «жаль распятого Христа» оказывается непременно участвующему в ситуации ego.


Список литературы Славистические исследования в центральноевропейском контексте
- Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Кн. 3. Берлин, 1923. С. 107-124. Цит. по: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс., Толстой Н.И. Послесловие // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 497-498.
- Über die phonologischen Sprachbünde//Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 4: Réunion phonologique internationale tenue à Prague (18-21/XII 1930). Prague, 1931. S. 234-240
- Якобсон Р. О теории фонологических союзов между языками//Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 94-95
- Якобсон Р. Основа сравнительного славянского литературоведения//Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 23-24.
- Поэзия славян. СПб., 1871. С. 357.
- Антология чешской поэзии XIX-XX веков: в 3 т. Т. I. М., 1959. С. 148.
- Puškin A. Měděný jezdec. Praha, 1938.
- Грабал Б. Слишком шумное одиночество/пер. С.С. Скорвида. СПб., 2002. С. 281.
- Hrabal B. Zbyt głośna samotność. Kraków, 1993.
- Hrabal B. Allzu laute Einsamkeit und andere Texte. Stuttgart, 2003.
- Лесков Н.С. Обуянная соль: рассказ. URL: http://author-leskov.ru/index.php?wh=p00052&pg=4 (дата обращения 26.03.2010).
- Мандельштам О. Шуба. URL: http://www.silverage.ru/poets/mandel/mand_shuba.html>, дата обращения 26.03.2010
- Vladimir Vysotsky in different tongues. Vysotsky translated. URL: http://www.wysotsky.com/1029.htm?42; http://www.wysotsky.com/1045.htm?105; http://www.wysotsky.com/1031.htm?25> (дата обращения 26.03.2010
- Jaromír Nohavica. URL: http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/setkani_s_puskinem.htm (дата обращения 26.03.2010).