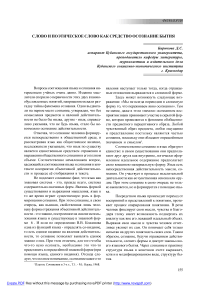Слово и поэтическое слово как средства осознания бытия
Автор: Бирюкова Д.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932600
IDR: 14932600
Текст статьи Слово и поэтическое слово как средства осознания бытия
Вопросы соотношения языка и сознания интересовали учёных очень давно. Издавна мыслители спорили о первичности этих двух взаимообусловленных понятий, напряженно искали разгадку тайны феномена сознания. Одни выдвигали на первое место сознание, утверждая, что без осмысления предметов и явлений действительности не было бы языка, другие - язык, справедливо указывая, что не будь языка, стало бы невозможно осознание действительности.
Отмечая, что сознание человека формируется непосредственно в общественной среде, и рассматривая язык как общественное явление, исследователи указывали, что язык по существу является единственным средством отражения и выражения общественного сознания в его полном объеме. Соответственно немаловажен вопрос, касающийся соотношения языка и сознания в контексте восприятия объективной действительности и процессе её отображения в тексте.
Не подлежит сомнению факт, что язык как знаковая система - это, прежде всего, система содержательно-значимых форм. Являясь формой существования и выражения мышления, язык в то же время играет существенную роль в формировании сознания. При этом сознание, в свою очередь, как высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности - это знание, построенное на основе использования языка и существующее в знаковой форме 6 . И если по определению В.В. Кожинова одна из функций языка - определять со-видение, то есть единое видение на явления действительности, то сознание позволяет выявлять единое знание о них. При этом отметим, для того чтобы что-то ясно осознать, необходимо это что-то представить в определённой знаковой форме (при помощи языка, единого видения). Отсюда следует, что полное понимание, осознание какого-то явления наступает только тогда, когда отражаемые отношения выражаются в словесной форме.
Здесь может возникнуть следующее возражение: «Мы не всегда переводим в словесную форму то, что переживаем явно осознанно». Тем не менее, даже в этом «немом» осознанном восприятии знаки принимают участие в скрытой форме, которая проявляется в феномене обобщенности предметного перцептивного образа. Любой чувственный образ предмета, любое ощущение и представление постольку являются частью сознания, поскольку они обладают определённым значением и смыслом1.
Соответственно сознание и язык образуют единство: в своем существовании они предполагают друг друга как внутренне, логически оформленное идеальное содержание предполагает свою внешнюю материальную форму. Язык есть непосредственная действительность мысли, сознания. Он участвует в процессе мыслительной деятельности как ее чувственная основа или орудие. При этом сознание в свою очередь не только выявляется, но и формируется с помощью языка.
Посредством языка происходит переход от восприятий и представлений к понятиям, протекает процесс оперирования понятиями. В речи человек фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет возможность подвергать их анализу как вне его лежащий идеальный объект. Выражая свои мысли и чувства человек отчетливее уясняет их сам. Он понимает себя только испытав на других понятность своих слов. Таким образом, сознание, будучи отражением действительности, «лепит» формы и диктует законы своего языкового бытия. Через сознание и практику структура языка в конечном счете выражает, хотя и в модифицированном виде, структуру бытия.
Рассматривая в этом ракурсе язык, следует отметить, что уникальность языковой системы на фоне других семиотических систем может быть определена как свойство означивания - присвоения (предицирования) значений. Языковое означивание предполагает присвоение объекту действительности языкового значения, устанавливая между ними (объектом и значением) отношения предикации и формируя таким образом пропозицию (предложение).
При этом А.Ф. Лосев различает бесформенное, неопределенное и неорганизованное вещество и вещи как результат оформления и осмысления материи1. Функцию преобразования неопределённого вещества в дифференцированные вещи и выполняет язык, присваивая языковые значения внеязыковому миру и обеспечивая ему вполне определенную, а потому воспринимаемую форму. Таким образом, действительность осознана человеком постольку, поскольку она отражена через посредство языковых значений2. «Мы ловим вещи живыми в капканы фраз», - говорит о языке Сартр, а Ф. де Соссюр уподобляет язык стеклам очков, через которые мы созерцаем предметы3. Этот видимый сквозь призму языка мир, представляющий собой смысловую форму внеязыкового мира, было предложено именовать языковой действительностью (она открыта в бесконечность, будучи системой динамической, пребывающей в постоянном и непрерывном развитии).
При этом, как и любая система, моделирующая объект по более простой схеме, язык редуцирует действительность, а соответственно несколько преобразует её, что со времен Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница принималось нередко за «искажение» действительности и заставляло предпринимать попытки освободиться от «пут языка» и выйти в некий «истинный» мир. Однако язык, преломляя через человеческое сознание объективную действительность, позволяет несколько упорядочить всё разнообразие мира. Уникальность языкового моделирования заключается в том, что язык организует действительность, присваивая ей признаки дискретности, структурности и системности. За счет присвоенных языковых значений действительность становится осмысленно упорядоченной, а следовательно, управляемой, т.е. не только воздействующей, но и поддающейся воздействию, что и составляет главное условие, обеспечивающее человеку возможность взаимодействия с миром4.
Факт, что в мире существуют явления, свойства и отношения, ни у кого не вызывает сомнений. Они в свою очередь конструируются с помощью языка и являются его конструктами. Язык как знаковая система становится способом осознанного конструирования мира. При этом под знаком понимают взаимосвязь означающего (в форме письма, рисунка или звука) и означаемого (значения слова или понятия). Языковой знак соотносится, как правило, со словом, в форме которого усматривают минимальную единицу языка. Способность любого знака обозначать какое-то явление, свойство, отношение обычно называют его значением, или понятием.
Соответственно сознание использует язык в качестве инструмента выражения бытия. При этом язык имеет строение, отличное от строения сознания и каждому слову языка, каждому предложению соответствуют определенная реальность бытия, реальность внешнего мира. Сознание других людей открывается для нас в слове.
Выражая акты и состояния сознания, слово «живет» в самом языковой сознании насыщенной жизнью. Смысловой облик слов складывается, изменяется и обогащается на протяжении всей их истории и культуры употребления в различных обществах. Участвуя в речеоформлении сознания, слово «тащит» за собой весь груз своих прошлых значений. В познавательных возможностях слова сходятся все его прошлые и настоящие свойства. На подобном пересечении где-то умещаются новые возможности значения слова, в форме которых реализуются конкретные чувственные образы, мыслительные операции, эмоции, любые другие процессы, состояния или структуры сознания.
Восприятие слова как строительного материала языковой действительности привело ко многим спорным суждениям. Так А.А. Потебня, развивший учение о взаимоотношении мысли и языка, утверждал, что «слово есть самая вещь», что «язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее»5. Конечно, подобная трактовка слова является несколько преувеличенной, однако в следующих цитатах несложно проследить мысль о том, что слово - орган самосознания, начало, организующее понимание вещи. Особого же внимания в этом учении заслуживает обращение А.А. Потебни к понятию внутренней формы слова, под которой он понимал «отношение содержания мысли к сознанию; она (форма) показывает, как представляется человеку его собственная мысль». Безусловно, можно согласиться с тем, что внутренняя форма слова есть отношение мысли к сознанию, где мысль объективно-внешнее по отношению к сознанию. Но А.А. Потебня, кроме того, называет внутренней формой представление в сознании собственной мысли человека. Из этого следует, что в человеке есть какая-то сфера бессознательных мыслей, которые осознаются при помощи внутренней формы слова. Эту-то бессознательную сферу мысли А.А. Потебня, видимо, и называет душой.
Эти суждения нередко вызывают недоумения: если и мысль и ее осознание субъективны, то каким образом возникает объективно-языковая внутренняя форма слова? И здесь стоит обратиться, прежде всего, к последователям А.А. Потебни теоретикам символизма, которые, продолжая его учение, дали несколько иное освещение этой концепции. Так В.Я. Брюсов отмечает, что «в первобытном языке, в слове были живы все три его элемента: звук, образ, понятие. Первобытным человеком непосредственно ощущалось звучание слова, воспринимался даваемый им образ, сознавалось выражаемое им понятие. С развитием речи первые два элемента имеют наклонность к вымиранию. Современный человек непосредственно не воспринимает звука слова и уже не чувствует скрытого в нём образа; слова всё больше и больше становятся значками понятий…». Соответственно следует предположить, что Потебня обращает прежде всего внимание на образ, то есть на чувственное восприятие. И это в некоторой степени верно, поскольку осознание человеком явлений действительности начинается именно на уровне восприятия, чувствования. И лишь после этого рождается понятие.
Учитывая, что основной принцип концепции Потебни - всепроникающая семантичность, неудивительно, что именно слово стало главным объектом его семантических разысканий. Учёный обращается к значению, содержанию слова. «Нетрудно вывести из разбора слов какого бы ни было языка, - пишет А. А. Потебня, - что слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово стол значит только постланное (корень -стл- тот же, что в глаголе стлать) и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, матери-ала»3. Из этого следует, что в нашей душе есть богатый содержанием, то есть разнообразными признаками, образ предмета, который и есть неосознанная мысль. Осознание заключается в том, что образ разлагается на признаки, один из которых и становится его понятием (значением).
Если же рассматривать подобное с точки зрения науки о языке, то основной характеристикой языка является номинативность, сущность которой состоит в том, что основная единица языка - слово - обозначает или именует предмет, образ которого содержится в душе человека. При этом важно, что предмет не просто существует в действительности, а осознаётся, поскольку именно через человеческое восприятие этот предмет наделяется смыслом и становится зна-чимым4.
Существенно, что сегодня слово, как справедливо отмечает В.Я. Брюсов, утрачивает первые два свои элемента (звучание и образ), отчего лексемы "слово" и "понятие" (или, иначе говоря, "значение") становятся практически синонимичны. От этого концепция Потебни, касающаяся вопросов языка и сознания, видится несколько надуманной из-за субъективности в понимании слова. Однако она оказывается весьма точной применимо к поэтической сфере.
«Слово как таковое... для поэзии бессмысленно - заявляет В.Я. Брюсов, понимая под словом понятие, поскольку само по себе оно не вмещает в себя никаких признаков связанности всех явлений мира, не сказывает «душу поэта», не передаёт его особого отношения «к миру, к себе самому...»5. Подобную трактовку связывают со спецификой поэтического творчества в основе которого, по мнению Ю.В. Казарина, должен лежать особый тип мышления, отображения бытия и номинации1. Не один Ю.В. Казарин выдвигает подобное суждение. Многие даже определяют сущность этого «особого мышления». Так В.Е. Хализев видит его в автопсихологичности поэзии. Читателям дороги человеческая подлинность лирического переживания, прямое присутствие в стихотворении, по словам В.Ф. Ходасевича, «живой души поэта»: в поэзии слово - всё; в прозе слово - только средство. Поэзия творит из слов, создающих образы и выражающих мысли; проза (художественная) - из образов и мыслей, выраженных словами...»2, язык обыденной речи соответственно - из понятий. Творчество истинного поэта, по мнению В.Я. Брюсова, идёт от слов к образам и мыслям, а Альберт Камю и вовсе утверждает: «Почему я художник, а не философ? Потому что я мыслю словами, а не идеями»3, где под словом подразумевается эмоция, образ, а под идеей - значение и понятие.
Таким образом, мы можем наблюдать, что осознание явлений действительности происходит как через понятия, так и через образное восприятие, но и в том и в другом случае, будь это просто слово (слово-понятие) или поэтической слово (слово-образ) - это, прежде всего, начало, организующее понимание вещи.
Список литературы Слово и поэтическое слово как средства осознания бытия
- Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. -М., 1994.
- Брудный А.А. Семантика языка и психология человека.-Фрунзе, 1972.
- Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. -М., 2002.
- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. -М., 1976.
- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. -М., 1976.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. VI. -М., 1975.
- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. -М., 1976.
- Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учебное пособие. -М., 1997.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. VI. -М., 1975.
- Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: Учебник для вузов. -М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. VI. -М., 1975.
- Казарин Ю.В. Указ. соч.