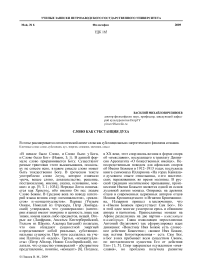Слово как субстанция духа
Автор: Пивоев Василии Михаилович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается онтологический аспект слова как субстанционально-энергетического феномена сознания.
Слово, субстанция, дух, энергия, сознание, значение, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/14749584
IDR: 14749584 | УДК: 165
Текст научной статьи Слово как субстанция духа
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн, I; 1). В данной формуле слово приравнивается Богу. Существуют разные трактовки этого высказывания, поскольку не совсем ясно, в каком смысле слово может быть тождественно Богу. В греческом тексте употреблено слово λογος, которое означало «речь, вещее слово, доказательство, решение, постановление, мнение, сказка, основание, мнение» и др. [5; Т. 1; 1034]. Нередко Логос понимается как Христос, ибо именно Он нес людям Слово Божие. В Средние века по поводу категорий языка возник спор «номиналистов», «реалистов» и «концептуалистов». Первые (Уильям Оккам, Николай из Отрекура, Петр Ломбардский) утверждали, что «универсалии» (категории языка) имеют значение и ценность лишь как знаки, имена каких-либо предметов, вещей. Вторые же (Ланфранк, Ансельм Кентерберийский, Гильом из Шампо, Аделярд Батский) полагали, что они обладают сущностной энергией и представляют собой реальные, субстанциональные сущности. При этом ссылались на учение Платона об «идеях». Третьи, «концептуалисты» (Петр Абеляр, Иоанн Солсберийский), полагали, что существо универсалий – абстрактное представление, понятие, «концепт» [8]. Позднее, в ХХ веке, этот спор вновь возник в форме спора об «имяславии», восходящего к трактату Дионисия Ареопагита «О божественных именах». Непосредственным поводом для афонских споров об Имени Божием в 1912–1913 годах послужила книга схимонаха Иллариона «На горах Кавказа» о духовном опыте отшельника, о его мистических переживаниях во время молитвы. В русской традиции молитвенное призывание, произнесение Имени Божьего является одной из основ духовной жизни монаха. Опираясь на древних отцов и современных церковных авторов отцов Иоанна Кронштадтского и Игнатия Брянчанинова, Илларион пришел к заключению, что в «Имени Божием присутствует Сам Бог». Но в этой идее многие усмотрели ересь и обвинили автора в пантеизме. Православные монахи на Афоне разделились на две партии – имяславцев и имяборцев. Глава имяславцев иеросхимонах Антоний (Булатович) так сформулировал идеи движения: «Воистину Имя Божие есть словесное действие Божества»; «всякое Имя Божие, как истина Богооткровенная – есть Сам Бог, и Бог в них пребывает всем существом Своим, по неотделимости существа Его от действия Его» [1; 5]. Спор завершился осуждением «имя-славия», но проблема получила развитие в философском плане в работах А. Ф. Лосева («Философия имени»), С. Н. Булгакова («Философия имени») и П. А. Флоренского («Имена. Метафизика имен в историческом освещении», «Имяславие как философская предпосылка»).
Слово «субстанция» ( лат. substantia – сущность, существо, суть) – существо, сущностная основа, обладающая самостоятельным существованием, субстрат, материал и форма чего-либо [6; 969]. Обычно возводят начало осмысления субстанции к Аристотелю, но, строго говоря, Аристотель таким термином не пользовался, он писал о сущности (оὐσία – «усия»). У греков термина «субстанция» вообще не было, близким по смыслу было слово υπόστᾱσις – «основа, сущность, основание» [5; Т. 2; 1698]. Неоплатоник Порфирий во «Введении к категориям Аристотеля» уже употребляет вместо аристотелевской «усии» слово «субстанция». Под субстанцией обычно понимают некую реальную основу, какой-то «материал», из которого выполнен объект, хотя нередко имеют в виду оформленность материала.
Формулировка названия нашей работы возникла у нас под влиянием книги О. Шпенглера «Закат Европы», где есть размышления о субстанциональной сущности слова [13; 252–257]. Правда, он не говорит о качественной стороне слова как субстанции. Но это уже наша проблема.
Действительно, в слове объективируется дух, в том числе Дух Божий: Слово, несущее божественную энергию, воплощает свет и добро, милосердие и любовь. Но что такое «дух»?
Вильгельм фон Гумбольдт, пытаясь определить «дух человечества», писал: «…идея человечности есть не что иное, как живая сила духа, который ее одушевляет, через нее выражается, в ней деятельно и активно проявляется» [4; 343]. Далее он обнаруживает различные аспекты духа: 1) нечто чувственное (воспринимаемое иногда обонянием); 2) душа, или чистый дух; 3) дух как привидение; 4) дух как энергия; 5) естественное в противоположность механическому; 6) характерность; 7) способность наполнить живой силой воображения; 8) подлинная сущность [4; 344]. По нашему убеждению, в основе духа лежит вера.
Задача данной статьи – обозначить важнейшие измерения слова как субстанции духа:
Во-первых, слово как имя и название задает шаблон восприятия и понимания мира и вещей. Американский филолог Э. Сепир писал: «Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном… в значительной мере они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. Представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без помощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения специфических задач мышления и коммуникации, – это всего лишь иллюзия. В действительности же “реальный мир” в значительной мере неосоз- нанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. <…> Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [10; 261]. Немецкий экзистенциалист М. Хайдеггер назвал язык «домом бытия»: «В жилище языка обитает человек» [12; 192]. Все, что важно для общества, для людей, должно быть обозначено словом; если что-то словом не обозначено, того как бы нет. Все, что оформлено словом и прошло через зрительное восприятие, осознается легче, остальное осознается с трудом. Вот почему слово рассматривается как форма сознания.
По определению Г. Г. Шпета, язык есть «орган внутреннего бытия и даже само это бытие, как оно постепенно достигает внутреннего сознания и своего обнаружения» [16; 11]. И далее: «Язык не столько проявление сознательного творчества, сколько непроизвольное истечение самого духа» [16; 11]. Конечно, отдельные языковые феномены создаются конкретными индивидами, но они приобретают статус общеязыковых явлений лишь в том случае, если общество принимает их в качестве достаточно ценных и важных для решения каких-то задач и начинает активно использовать их. «Язык есть как бы внешнее явление духа народов, – их язык есть их дух и их дух есть их язык» [16; 13]. Слова языка фиксируются в словарях. Вот что писал об этом С. Я. Маршак:
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство, Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать, век заживать чужой...»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной, А древняя рассыпанная повесть.
Во-вторых, слово, особенно устное, да еще ритмически организованное, обладает внушающей силой. По словам О. М. Фрейденберг, «мифологическое 'слово', основанное на образе тотема – нетотема и ритмически оформленное, воплощается в метафоре Логоса. Самый процесс говорения, произнесения слов (позже – пения и декламации) семантизируется очень своеобразно. Совершенно необходимо уяснить себе эту семантику архаических 'слов', логосов, и позабыть о значении нашего современного языкового слова. В тотемистическую эпоху космос представляется говорящим шумом ветра-воз-духа, плеском воды, шелестом листьев и т. д. Произносимое слово – это живой тотем, живой и конкретный, который рождается и рождает» [11; 77]. В исламе само чтение Корана, произнесение вслух священного текста (особенно нараспев) является благим делом, прикосновением к божественной сущности Аллаха. Среди мусульман подвигом благочестия считается выучивание Корана наизусть, в результате чего священная книга становится «плотью» и основой духа человека. Такое знание священных слов очищает, облагораживает человека. Точно так же и молитва любой религии, произносимая вслух, как показали исследования японского ученого Эмото Масару, оказывают гармонизирующее влияние на человека и его взаимодействие с космосом. Японцы верят в душу слова, имея в виду в первую очередь слова молитвы-норито.
Слово может быть законом и приказом. Поэт В. Шефнер в стихотворении «Слова» говорит:
Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить, Слово можно в разящий свинец перелить...
Русский философ П. Я. Чаадаева писал о слове: « Слово! - А что такое Слово? - Смотрите на кормщика; - среди подводных камней он правит верно кораблем своим, по воле своей вертит им, как простым куском дерева, плавающим на поверхности вод: от времени до времени повторяет он несколько слов, и они-то производят это чудо. - Взгляните на поле сражения: сотни полков подвиглись, в одно время вдруг бросаются они на неприятеля - одно мановение, одно слово начальника тому причиною. - Вот слабое подобие глагола могущего, который яснее и звонче всякого человеческого голоса в ограниченном пространстве раздается в беспредельности вселенной, - и этот глагол есть слово. - Слово есть действующая сила речи, глагол творящий» [13; 164]. По словам А. Ф. Лосева, «слово - энергия мысли и осмысляющая сила» [7; 831]. В иранской религии зороастризма три верховные божества воплощали «мысль», «слово» и «дело», причем главным было именно слово (слово правды, слово закона, слово правителя). Суть ученичества пророка Заратуштры у верховного бога Ахурамазды заключается в том, чтобы овладеть словом . В одной из «гат» (песен) «Авесты» звучит проповедь: «Провозглашаю слова, которые да не будут услышаны приверженцами лжи [Друдж], но пусть будут восприняты последователями Мазды... Не слушайте заклинаний приверженцев лжи... Слушайте жреца истинных слов, того, кто способен подтвердить истинность слов, которые произнесут его уста в ту пору, когда будет происходить последний суд посредством злого пламени». Причем особую силу эти слова приобретают также благодаря размеренности, ритмичности.
В-третьих, слово выражает энергию духа, организующую мир и отношения людей. Об этом хорошо сказала О. М. Фрейденберг, тонкий знаток мифологических основ культуры: «Первичная речь, созданная образным мышлением, не могла иметь причинно-следственного построения понятийной речи. Ее первичный костяк чисто ритмический, состоящий из повышения и понижения голоса, в такт с поднятием и опусканием ног (и рук, т. е. в такт с ходьбой или остановкой). Так, двучленная конструкция делается основой всякого первоначального предложения. Главный закон, действующий в этом примитивном языке, заключается в том, что звучание, произнесение слова отождествляется с его содержанием; иначе, что фонема и ее значимо сть совершенно равны. На основе этого закона первобытная речь так строит свое двучленное предложенье, что полярность тотема -нетотема выражается следующими формами: фраза делится на две части, положительную и отрицательную; фонетически это звуковое сходство при одновременном расхождении дает внутреннюю рифму, которая связывает обе части предложения. Вначале не только язык, а каждая отдельная фраза представляет собой систему, в которой все слова значат одно и то же, повторяют друг друга и семантически, и фонетически, и ритмически. Вот почему в примитивном языке так много повторений, повторов, однообразия звуков, бесконечного выкрикивания одних и тех же восклицаний и звуковых комплексов. По содержанию эти все звучания, восклицания, выкрики означают имя тотема. Эти называния возрождают его, воссоздают его, репродуцируют в звуках весь комплекс образов о тотеме. Греческие хоровые песни, как и римская архаическая речь, полны этих призывов (инвокаций) божества, называний его, повторений его имени» [11; 74-75]. Во многих мифологических и религиозных традициях произнесение имени бога «всуе», то есть в обыденной ситуации, запрещено, это допустимо лишь во время обряда и только посвященным жрецам, колдунам доверены имена Бога. В иудейской Каббале магия имен Божиих является важнейшей субстанциальной основой. Но слово может нести и темную энергию. Современные психологи разработали методики и приемы нейролингвистического программирования, эриксоновского гипноза, суггестивной лингвистики и фоносемантики, манипулирования сознанием людей, что в прежние времена называли наведением порчи и сглаза.
В-четвертых, слово выражает значение и смысл. «Слово - не эквивалент чувственно-воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова. <...> „.Язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества...» [3; 103]. Внутренняя форма слова определяется смыслом, который в слове выражен, а смысл заключается в связи с потребностями человека.
В-пятых, в слове обнаруживают: 1) содержательную сторону, связанную с выражением потребности, мотивации и интереса, а также объективной ценности как способности и средства удовлетворения потребности; 2) формальную (фономорфологическую) сторону, включающую в себя звуковую, графическую и внутреннюю сущностную аксиологическую форму [16; 141]. Именно последняя, как полагал вслед за В. фон Гумбольдтом Г. Г. Шпет, способна раскрыть подлинный смысл слова. Он предлагал различать «слово-образ» и «слово-термин», при этом второе стремится к «прямому выражению» содержания, смысла объекта, обозначенного словом. В отличие от этого, « слово-образ отмечает признак вещи, “случайно” бросающийся в глаза, по творческому воображению» [15; 444].
В-шестых, субстанция слова – это ценностный смысл, энергия и информация, энергоинформационная субстанция. Как замечает американский психолог и лингвист С. Пинкер, слово обладает волшебной способностью создавать к голове другого человека почти такой же образ, который возникает в его собственной голове, и помогает испытать чувства, подобные тем, которые испытывает он [9; 8].
Смыслом слова является отношение того предмета или явления, которое этим словом обозначается, к потребностям людей, способность или возможность успешно удовлетворять какие-либо потребности. Если какие-то предметы не способны удовлетворять человеческие потребности, то они не имеют смысла. Смысл всегда имеет отношение к субъекту. Но субъекты бывают разные: 1) моносубъект, субъект-индивид, человек, обладающий потребностями и знанием о тех средствах, которые эти потребности могут удовлетворять; 2) полисубъект, группа, включающая в себя много индивидов, образующая некое единство этих людей с общими интересами, являющимися источниками смыслов.
В-седьмых, «слово есть жизнь», особенно если это доброе слово и добрая слава. «Слава есть неумирающее, вечно живое слово, бессмертие. Слава непременно словесна. По Гомеру, она сама – живое существо, муза, богиня; слава доходит до неба; первоначально она ходит, идет в небо, она сама живет в небе, она – небо. Образ 'славы' играет огромную роль в греческой поэзии. Пиндар говорит, что только одна слава дает истинное бессмертие, что она одна не меркнет никогда, а ее приносит песнь о подвигах. И люди начинают дорожить славой, и домогаться ее, и не жалеть ради нее жизни» [11; 79]. Но слово может быть и недобрым. Есть немало людей, которые из зависти, из корысти говорят недобрые, клеветнические слова, злоупотребляют критическим пафосом. По поводу критики хорошо сказал российский историк и философ Л. П. Красавин: критицизм есть признак незрелого ума и ученичества, зрелый ум проявляется в конструктивных, новых идеях. Критиковать легко, это может любой дурак, а вот придумать нечто более интересное и новое может не каждый.
В-восьмых, слово есть мысль. Именно слово выступает в роли наиболее успешной формы выражения мысли, слово оформляет и онтологизи-рует мысль, придает ей адекватное и удобное для понимания другими людьми воплощение . Одной из важнейших задач диалога, как замечал М. М. Бахтин, является самосознание с помощью собеседника как зеркала, глядя в которое как в «чужое сознание» говорящий находит наилучшие слова для выражения своей мысли, тем самым лучше понимает себя, осознает свои интересы и стремления.
В-девятых, слово письменное, как полагали древние греки, было лишь потенциальным словом, полноценное слово – звучащее, ибо именно оно наполняется субстанциальной энергией духа. Энтелехия (по термину Аристотеля), то есть актуализация слова, происходит в произнесении, озвучивании слов, при этом субъект речи (слова) пробуждает и наполняет его смыслом и субстанциальной энергией своего и божественного духа. Именно устная, особенно ритмичная речь нараспев оказывает на слушающих наибольшее впечатление и пробуждает в них энтузиазм, заражает и вдохновляет их божественной энергией созидания и надежды. «Надежда доставляет нам большое удовольствие, но то удовольствие столь интенсивно потому, что будущее, которым мы располагаем по нашему желанию, представляется нам в одно и то же время во множестве форм, одинаково заманчивых и одинаково возможных. Если осуществится даже наиболее желанное из них, то это будет куплено ценой утраты других, ценой больших потерь. Идея будущего, богатого бесконечными возможностями, плодовитее самого будущего. Вот почему в надежде больше прелести, чем в обладании, во сне – чем в реальности» [2; 679].
Названные аспекты помогают осмыслить одну из важных сторон духовной субстанции, изучение которой является актуальной задачей.
Список литературы Слово как субстанция духа
- Антоний (Булатович). Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. М., 1913.
- Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. 1408 с.
- Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 397 с.
- Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 451 с.
- Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958.
- Дворецкий И.Х.Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Русский язык, 1978. 1096 с.
- Лосев А.Ф. Вещь и имя//Лосев А. Ф. Бытие -имя -космос. М.: Мысль, 1993. С. 802-880.
- Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Петра Абеляра. М.: Гнозис, 1994. 424 с.
- Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004. 456 с.
- Сепир Э.С. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс: Универс, 1993. 656 с.
- Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература, 1998. 800 с.
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме//Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 192-220.
- Чаадаев П.Я.Статьи и письма. М.: Современник, 1989. 623 с.
- Шпенглер О.Закат Европы. М.: Мысль, 1998. Т. 2. 606 с.
- Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты//Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 345-472.
- Шпет Г.Г.Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. Изд. 3-е, стереотип. М.: КомКнига, 2006. 216 с.