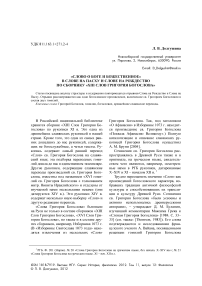«Слово о боге и божественное» в слове на Пасху и слове на Рождество по сборнику «XIII слов Григория Богослова»
Автор: Долгушина Людмила Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу структуры и содержания повторяющихся отрывков Слова на Рождество и Слова на Пасху. Отрывки рассматриваются как одно богословское произведение, включенное св. Григорием Богословом в состав двух гомилий.
Григорий богослов, гомилии, богословие, древнейшие славянские переводы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737708
IDR: 14737708 | УДК: 811.163.1+271.2-4
Текст научной статьи «Слово о боге и божественное» в слове на Пасху и слове на Рождество по сборнику «XIII слов Григория Богослова»
В Российской национальной библиотеке хранится сборник «XIII Слов Григория Богослова» по рукописи XI в. Это одна из древнейших славянских рукописей в нашей стране. Кроме того, это одна из самых ранних дошедших до нас рукописей, содержащих не богослужебные, а четьи тексты. Рукопись содержит самый ранний перевод «Слов» св. Григория Богослова на славянский язык; эта подборка переводных гомилий дошла до нас в единственном экземпляре. Другие рукописи, содержащие славянские переводы произведений св. Григория Богослова, известны под названием «XVI гомилий св. Григория Богослова с толкованием митр. Никиты Ираклийского» и отделены от изучаемой нами несколькими веками (они датируются XIV в.). Эти рукописи XIV в. содержат несколько иную выборку «Слов» и другую редакцию перевода.
«Слова Григория Богослова» бытовали на Руси не только в составе сборников «XIII Слов Григория Богослова», «XVI Слов Григория Богослова», но также и в составе других сборников, например, Изборника 1073 г. (В «Изборнике Святослава 1073 года» находятся извлечения из нескольких «Слов»
Григория Богослова. Так, под заголовком «О Афанасии» в Изборнике 1073 г. находится произведение св. Григория Богослова «Похвала Афанасию Великому».) Полную каталогизацию и описание славянских рукописей Григория Богослова осуществил А. М. Бруни [2004].
Сочинения св. Григория Богослова распространялись в Древней Руси также и в оригинале, на греческом языке, свидетельством чего являются, например, осмотренные нами в РГБ рукописи, датированные X–XIV и XI – началом XII в. 1
Трудно переоценить значение «Слов» как произведений богословского характера, вобравших традиции античной философской культуры и способствовавших их трансляции в культуру Древней Руси. Сочинения св. Григория Богослова «были усвоены и активно использовались древнерусскими авторами», – утверждает Д. М. Буланин, изучавший комментарии Максима Грека к «Словам Григория Богослова» [1984. С. 33– 35] (см. также: [Thomson, 1983]). Его слова подтверждаются и исследованиями французского ученого А. Вайана, посвященными рецепции гомилий Григория Богослова в произведениях Кирилла Туровского [Vaillant, 1950].
Произведения св. Григория Богослова являются жемчужиной святоотеческого наследия, и их востребованность всегда была очень высокой в христианской среде, в том числе и в древнерусском обществе XI в. Рукопись «XIII Слов Григория Богослова» относится к текстам, сыгравшим важную роль в процессах формирования древнерусской литературы и культуры. По словам Н. А. Мещерского, «с переводной письменностью в большой степени связано образование оригинальной древнерусской литературы. На материале переводов совершенствовался и обрабатывался древнерусский литературный язык» [1995. С. 246]. «Греческое влияние, таким образом, играет формирующую роль в образовании русского литературного языка древнейшего периода», – отмечает Б. А. Успенский [2002. С. 50]. Подобное утверждение мы находим и в работе выдающегося богослова XX в. протоиерея Георгия Флоровского, который так говорит о переводе Библии на славянский язык: «Это было становление и образование самого “славянского” языка, его внутренняя христианизация и воцерковление, преображение самой стихии славянской мысли и слова, славянского “логоса”, самой души народа. “Славянский” язык сложился и окреп именно в христианской школе и под сильным влиянием греческого церковного языка, и это был не только словесный процесс, но именно сложение мысли» [1992. С. 6].
Гомилии св. Григория Богослова не только имели большое значение как богословские произведения, но также занимали важное место в Богослужении. По уставу Великой Церкви (храма Святой Софии в Константинополе) неотъемлемой частью Богослужения таких великих христианских праздников, как Пасха и Рождество Христово, были чтения праздничных Слов – гомилий Святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Так, чтение «Слова 38» св. Григория Назианзина было назначено к чтению на Рождественском всенощном бдении после полиелея и после 3-й песни канона [Скабалланович, 1995. С. 166–168]. Есть все основания полагать, что чтение гомилий св. Григория Назианзина входило и в состав торжественных праздничных Богослужений на славянском языке. Так, известный болгарский исследователь прот. Б. Чифлянов доказывает, что именно богослужебный чин Великой Церкви был переведен свв. Кириллом и Мефодием для славян [1973]. О том, что устав Великой Церкви был принят также и на Руси, пишет в одной из своих работ Е. М. Верещагин: «Непосредственно по крещении Руси в Русской Церкви был воспринят устав Великой Церкви, т. е. Софийского собора в Константинополе, принесенный или из Болгарии, или из Херсонеса Таврического. Иначе не могло и быть, поскольку при вел. кн. Владимире Русская Церковь была причислена к Фракийской епархии Константинопольского патриархата, а в ней господствовал богослужебный порядок именно Великой Церкви… Хотя в 1401 г. на Руси уже был введен Иерусалимский устав, все же устав Великой Церкви продолжал исполняться еще почти три века» [2001. С. 315].
С течением времени Богослужение претерпело некоторые изменения: в частности, чтение «Слова на Пасху» св. Григория Богослова сейчас опускается (так как оно достаточно пространно, и его чтение занимает много времени), Слово же св. Иоанна Златоуста до сих пор можно услышать на Пасхальном Богослужении в каждом православном храме.
Первый круг церковнославянских текстов создавался в миссионерских целях христианского просвещения славян. Перед первоучителями стояла задача научить основам христианской веры людей, многие из которых хотя и были уже крещены, но не могли получить должного научения от иноязычных проповедников. Чтения из Святых отцов могли составлять часть такого научения, поскольку Слова св. Григория и св. Иоанна Златоуста доносили до славян дух раннехристианской проповеди и святоотеческого Богословия. В гомилиях на Пасху и Рождество св. Григория Богослова в краткой, яркой и выразительной форме излагаются основные догматы христианского вероучения. О том, что учительная литература была необходима для миссионерской деятельности первоучителей славян, пишет и известный славист А. С. Львов в работе, посвященной изучению «Речи Философа», входящей в состав «Повести временных лет» [1968. С. 394]. Изучив язык этого произведения, исследователь делает вывод, что оно могло появиться и употребляться еще в Моравии. В подтверждение своего мнения А. С. Львов приводит, в частности, и такой довод: св. Кирилл и особенно св. Мефодий в своих проповеднических трудах не могли бы обходиться без подобной христианской учительной литературы. Заметим, что с точки зрения содержания (а оно посвящено изложению христианских догматов) «Речь Философа» близка «богословским гомилиям» «Слово на Пасху» и «Слово на Рождество» св. Григория Богослова.
Учитывая особенности содержания «Слова на Пасху» и «Слова на Рождество», их значение в Богослужебном чине, мы можем предположить, что перевод избранных произведений св. Григория Богослова был сделан на самом раннем этапе существования славянской письменности. Здесь следует сказать, что Григорий Богослов занимал особое место в жизни св. Константина-Философа. Из текста Пространного Жития Святого Константина-Кирилла видно, что он особенно почитал св. Григория Богослова, молился ему, а творения его учил наизусть. Среди произведений, автором которых ученые признают св. Кирилла, находится «Похвала Григорию Богослову» [Топоров, 1995. С. 22].
Тексты св. Григория как нельзя лучше соответствовали целям катехизации, изложения веры, которые стояли перед братьями-миссионерами, Просветителями славян. Немаловажное значение в данном случае имеет содержательная сторона гомилии на Рождество: основная ее часть – это, по существу, квинтэссенция богословия св. Григория, краткое и в то же время яркое изложение основ православной веры и христианских догматов.
Следует отметить, что святой Григорий Богослов – один из немногих писателей, которым Церковь присвоила высокое именование «Богослова». Кроме Святителя Григория, только двое христианских святых удостоились такого именования – св. Иоанн Богослов и св. Симеон Новый Богослов. Св. Григорий Богослов именуется также «вселенским учителем» наряду со святителями Иоанном Златоустом и Василием Великим.
Богословское содержание произведений св. Григория Богослова сочетается с блестящей риторикой и поэзией, что сделало его сочинения одним из любимейших чтений христиан с IV в. и до наших дней. Св. Григорий Богослов является авторитет- ным истолкователем православных догматов, чье мнение очень высоко ценилось как современниками, так и христианами последующих веков. Так, св. Никифор, патриарх константинопольский, живший в VIII в., называет его «из богословов сильнейшим» 2, а авторы современности включают св. Григория в ряд самых блестящих богословов всех времен [Мейендорф, 2001. С. 199].
Принято считать, что именование «Богослова» Григорий Назианзин получил за свои «Пять Слов о богословии» [Там же], но нельзя не признать, что догматическое богословие является предметом и других его произведений, в частности торжественных слов на христианские праздники. В наследии св. Григория Богослова мы находим семь гомилий на праздники: 1) «Слово первое на Пасху и о своем замедлении», 2) «Слово на память Свв. мучеников Маккавеев», 3) «Слово в похвалу св. мученика Киприана», 4) «Слово на Богоявление, или на Рождество Спасителя», 5) «Слово на Святые Светы явлений Господних», 6) «Слово на Святую Пятидесятницу», 7) «Слово на Святую Пасху». Из всех перечисленных Слов на праздники наиболее близки по содержанию «Слово на Святую Пасху» и «Слово на Богоявление, или на Рождество Спасителя». Второй круг близости составляют «Слово на Святую Пятидесятницу» и «Слово на Святые Светы»; остальные гомилии имеют очень мало сходства.
Четыре гомилии, отмеченные как имеющие сходство в содержании, являются Словами, произнесенными в дни важнейших и древнейших христианских праздников. Сходство в содержании проявляется главным образом в наличии апологетической части (против ересей), краткого богословского изложения истории человека и Домостроительства Божия, а также в наличии характерного «введения», где обличаются языческие празднества, говорится о том, какими должны быть христианские праздники, и предлагается Слово (произносимое св. Григорием) как дар празднику.
«Слово на Пасху» (далее – СП) и «Слово на Рождество» (далее – СР) особенно выделяются среди четырех указанных «Слов» большим объемом глубокого богословского содержания. Один из крупнейших право- славных богословов XX в., о. Георгий Фло-ровский, характеризует их в этом отношении как «особенно значительные» [1992. С. 96]. Несмотря на некоторые черты сходства, они достаточно сильно отличаются от других «Слов» на праздники, и в немалой степени этим отличием они обязаны входящим в их структуру так называемым «повторяющимся отрывкам».
«Повторяющиеся отрывки» СП и СР – это, по сути дела, одно богословское произведение, включенное св. Григорием в состав двух гомилий, которые он произнес перед своей паствой в дни великих христианских праздников. Такая особенность СП и СР связана и с их значением как Слов на важнейшие христианские праздники и с историей их создания (СР хронологически первое «богословское» Слово на праздник, произнесенное в 379 или 380 г., является древнейшей известной рождественской проповедью на Востоке; СП (после 383 г.) – последнее, завершающее пастырские труды Святителя Григория Богослова [Там же]). Кроме того, особая апологетическая направленность Слов связана также и с историческим контекстом их создания (борьба с ересями ариан и савеллиан придавала особую важность произведениям догматического богословия).
Входящее в состав СП и СР богословское произведение посвящено следующим темам, характерным для творчества св. Григория и являющимся лейтмотивом его творений: Троическому богословию, путям Богопо-знания и Тайне Спасения. О том, что повторяющиеся отрывки являются, по сути, целостным произведением, свидетельствуют и наличие у них того, что можно назвать заглавием, и определенное введение, которое предшествует им в тексте «Слов», а также целостность композиции и завершенность содержания. Это произведение озаглавлено у св. Григория следующим образом: «Слово о Боге и божественно» (перевод СП на русский яз., с. 663) 3, «Слово о Боге и Божие» (СР, с. 524), в греческом же тексте как в СП, так и в СР мы читаем: peri7 Qeou4 kai qei4oV o8 lo1goV . Перевод «Слово о Боге и божественное», по нашему мнению, более верно выражает смысл греческой фразы.
Вот краткий план содержания «Слова о Боге и божественного» повторяющегося в СП и СР:
-
1) «любомудрствование о Боге» – рассуждения о Боге и о Богопознании;
-
2) утверждение Троичности Бога;
-
3) Божие Домостроительство (создание мира, история грехопадения и Искупления);
-
4) опровержение еретических учений ариан и савеллиан.
Св. Григорий дважды повторяет это «Слово» перед своей паствой, следуя своему принципу, изложенному в «Слове 39 (На Святые Светы)»: « Ki2 de ti tw4n h6dh proeirhme1nwn o8 nu4n e6xei lo1goV, qau ‐ maze1tw mhdei1V. Ou2 ga7r ta7 au8ta kai7 fqe1gxomai mo1non, a8lla7 kai peri7 tw4n au2tw4n, fri1ttwn kai7 glw4ssan, kai7 nou4n, kai7 dia1noian, o6tan peri7 Qeou4 fqe1ggw ‐ mai » 4. В русском переводе это звучит так: Если же настоящее слово будет заключать в себе нечто из сказанного уже прежде; никто не удивляйся. Ибо стану говорить не только то же, но и о том же, имея трепетный язык, и ум, и сердце, всякий раз, когда говорю о Боге (c. 537).
Яркой особенностью «Слова о Боге и божественного» являются присутствующие в большом количестве аллюзии на Евангельский текст, явные и скрытые цитаты и перифразы. (Например, o6ti lenti1w dia ‐ zw1nnutai, kai7 ni1ptei tou4V po1daV tw4n maqhtw4n (русский перевод: препоясуется лентием и умывает ноги учеников – ср. Ин. 13, 4–5)).
«Слово о Боге», включенное в состав СП и СР, является текстом, содержащим в концентрированной форме богословские и апологетические рассуждения св. Григория. Одновременно это поэтическое произведение, соответствующее торжественности и красоте богослужения великих христианских праздников Рождества и Пасхи. Это накладывает свой отпечаток на языковые особенности произведения и предъявляет особые требования к его переводу. Почти каждое слово, употребленное св. Григорием в «Слове», служит передаче богословского смысла и несет поэтическую нагрузку. Св. Григорий Богослов создает прекрасное с художественной точки зрения произведение, используя богатые выразительные средства греческого языка и различные поэтические приемы (например, гомотелевтами, ритмической организацией речи:
lampro1thta Qeou4
kai7 i2dei4n kai7 paqei4n a2xi1an tou4 kai7 sundh1santoV, kai7 lu1sontoV kai7 au24qiV sundh1sontoV).
В то же время употребляемая автором лексика не только организует поэтическую ткань произведения, но и несет точный богословский смысл. Это тот круг лексики, которая получила хождение в святоотеческом богословии, а также та философская терминология античности, которая была «воцерковлена» и стала языком богословской науки (например, термины a2rcetu1pon, ei2kw1n8, to7 h2gemoniko1n, qewri1a, ko1smoV, nohto1V, nou1V (no1oV), ou2si1a, u6lh, fu1siV, O8 w3n). Гомилии св. Григория Богослова обычно не упоминают в числе произведений философского содержания, доступных древнерусскому читателю. В то же время св. Григорий, за годы учения в Афинах преуспевший в «философии деятельной и умозрительной, а равно и в той ее части, которая занимается логическими выводами и противоположениями, а также состязаниями, и называется диалектикою» [Святитель Григорий Богослов, 1994. С. 618], во многих своих произведениях обращается к терминам и понятиям античной философии. Ярким примером текста с философским содержанием является именно «Слово о Боге и божественное». Приведем в качестве примера отрывок из него по тексту русского перевода: всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится, как некое море сущности неопределенное и бесконечное… иный и почитает принадлежностью простого естества быть или вовсе непостижимым, или совершенно постижимым. Но исследуем, что составляет сущность простого естества; потому что простота не составляет еще его естества, точно так же, как и в сложных существах не составляет естества одна только сложность… беспредельное простирается далее начала и конца, и не заключается между ними… вечность не есть ни время, ни часть времени, потому что она неизмерима) [Там же. С. 663–664].
Итак, «Слово о Боге и божественное» может дать ценный материал для изучения того пласта античной философии, который посредством богословских произведений стал известен Древней Руси. Большой интерес для исследования представляют также переводческие решения при передаче употребленной в «Словах» философской терминологии средствами славянского языка. Перед нами открывается картина формирования круга славянской богословской лексики и философской терминологии. Мы можем проследить, какие из философских терминов, употребленных в тексте св. Григория Богослова, имели устоявшиеся славянские соответствия, а какие передавались средствами церковнославянского языка по-разному.
«THE WORD OF GOD AND THE DIVINE» IN THE EASTER AND CHRISTMAS HOMILIES FROM THE «XIII HOMILIES OF ST.GREGORY THE THEOLOGIAN»