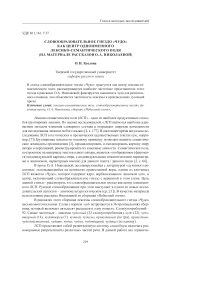Словообразовательное гнездо "чудо" как центр одноименного лексико-семантического поля (на материале рассказов О. А. Николаевой)
Автор: Козлова Ольга Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье словообразовательное гнездо «Чудо» трактуется как центр лексико-семантического поля; рассматриваются наиболее частотные представители этого гнезда в рассказах О.А. Николаевой; фиксируется значимость чуда для религиозного сознания, чем объясняется частотность лексемы в произведениях духовной прозы.
Лексико-семантическое поле, словообразовательное гнездо, духовная проза, о. а. николаева, сборник "небесный огонь"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281494
IDR: 146281494 | УДК: 811.161.1’37
Текст научной статьи Словообразовательное гнездо "чудо" как центр одноименного лексико-семантического поля (на материале рассказов О. А. Николаевой)
Лексико-семантическое поле (ЛСП) – один из наиболее продуктивных способов группировки лексики. По оценке исследователей, «ЛСП являются наиболее адекватным методом членения словарного состава и открывают широкие возможности для исследования лексики любого языка» [4, с. 177]. В настоящее время актуально исследование ЛСП в поэтических и прозаических художественных текстах (см., например: [7]) Группировка лексики по полевому принципу позволяет выявить семантические доминанты произведения [3], проанализировать и смоделировать картину миру автора и персонажей, реконструировать их языковые личности. Семантическое поле, построенное на материале текстов одного автора, является «отображением (фрагмента) индивидуальной картины мира, с индивидуальными семантическими параметрами и лексиконом, характерным именно для данного текста / данного лица» [2, с. 64].
В прозе О. А. Николаевой, ассоциирующейся с литературой «духовного реализма», основывающейся на ценностях православной веры, одним из ключевых ЛСП является «Чудо», которое содержит ядро, вербализованное лексемой чудо , и центр, включающий словообразовательное гнездо с вершиной в этом слове . Цель данной статьи – рассмотреть это словообразовательное гнездо как центр одноименного ЛСП. Русское словообразование при этом выступает в одном из новых исследовательских аспектов – лингвокультурологическом (ср.: [1]). В качестве материала использованы рассказы Николаевой из сборника «Небесный огонь».
В рассказах этого сборника лексемы словообразовательного гнезда «Чудо» весьма многочисленны. Слова с корнем -чуд- встречаются в 36 произведениях сборника, который включает пятьдесят рассказов и одну повесть. Словоупотреблений – 92. Самые частотные - лексемы чудесный (32 словоупотребления), чудо (22) , чудотворный (14) , чудотворец (7) , чудный, чудесно, причудливый (по три) , причудливо, чудодейственный, чудить, чудик, чудом, чудовищный, чудище (по одному).
ЛСП представляет собой разветвленную систему, способную включать разнокорневые репрезентанты различных частей речи. В данной работе мы ограничи- ваемся рамками одного сборника и рассматриваем не всё ЛСП «Чудо», а лишь находящееся в центре одноименное словообразовательное гнездо. Чем дальше лексемы находятся от центра, тем слабее семантические связи с исходным словом. Следовательно, в поле нашего внимания попадают слова, наиболее сильно деривационно и семантически связанные с дескрипторной лексемой. Сосредоточим внимание на трех наиболее частотных лексемах – чудо, чудеса, чудотворный.
Лексема чудо, являющая исходным словом гнезда и дескриптором всего ЛСП, не самая частотная, хотя все производные семантически обусловлены и мотивированы ею. В Малом академическом словаре фиксировано пять значений сущ. чудо, в сборнике «Небесный огонь» наиболее частотно первое: «По религиозным и мифологическим представлениям: сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, потусторонней силы» [6, с. 691]. Это значение реализуется в разнообразных контекстах, например, в рассказе «Про любовь» героиня так отреагировала на неожиданную встречу её мужа с почитаемым ими старцем Антонием: «Я заплакала. Это было настоящее чудо , милость Божия!» [5, с. 328] (здесь и далее в цитатах ключевые слова курсивом выделены мною. – О. К.). Чудо и милость Божия выступают в качестве контекстуальных синонимов, подчеркивая значимость события для героев: это не просто случайная встреча, для верующего – это ответ на искреннюю духовную жажду, который воспринимается как драгоценный дар.
В рассказе «Эксперимент» кандидат биологии утверждает: «Все равно, я верую в естественные законы природы и, пока чуда сверхъестественного не увижу, не поверю. И точка» [Там же, с. 400]. И только когда Господь явил ему чудо – спасение в авиакатастрофе, когда все остальные погибли, он осознал, что «если он выжил, то это Бог его спас» [Там же, с. 402].
Подобную ситуацию пережила героиня рассказа «Ангел», попавшая в автомобильную аварию, но избежавшая серьезных повреждений. Она осознала: «Со мною произошло настоящее чудо , и душа переживала торжество, не силах до поры это вместить и осознать. Особенно поразил меня этот отчетливо прозвучавший голос: “Не бойся! Не бойся! Не бойся!”» [Там же, с. 600].
Как видим, чудо в первом значении у Николаевой, как правило, – какое-то значительное, желаемое внешнее событие, серьезно влияющее на духовную жизнь персонажа. И встреча со старцем, лекции которого герои слушали в записи, и чудесные спасения в катастрофах явились Божьими знамениями, подтверждающими, а в некоторых случаях и утверждающими веру в Его могущество.
Второе значение («Нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление» [6, с. 691]) репрезентируется реже, обычно в случае множ. числа чудеса. Как следует из словарного толкования, божественная природа явления не подчеркивается. Так, в «Августине» сущ. чудеса выражает отношение рассказчика к необычным приключениям монаха-самозванца: «А недавно кто-то из наших видел его в самой лавре. Якобы он расхаживал там в подряснике и выдавал себя за монаха Августина. Чудеса !» [5, с. 472].
Прил. чудесный в рассказах Николаевой реализует три значения. В значении «совершающий чудеса, чудотворный» [6, с. 690] лексема чудесный встречается, например, в следующих контекстах: «Есть много рассказов о чудесной силе его молитвы» («Повелитель дождя») [5, с. 235]; «Наконец наступили новые времена, и Вася приехал со своей чудесной иконой в Москву («Голодарь») [Там же, с. 284]; «О чудесной помощи Трифона – мученика я слышала много историй» («Трифон-мученик») [Там же, с. 296].
В приведенных контекстах прил. чудесный употребляется со словами, обозначающими важные в православии понятия: сила молитвы, икона, помощь святого. Частотность первого значения объясняется общим пафосом рассказов Николаевой. Каждый из них – история общения человека и Бога. Это общение через посредников – святых людей и чудесные предметы – является главным событием в духовной жизни христианина, поэтому ему уделяется особое внимание.
Значение прил. чудесный «являющийся чудом <…>; заключающий в себе чудо» [6, с. 690] также неоднократно встречается в сборнике. Например, в рассказе «У блаженной Ксении»: «Я вас и к расстрелянному образу Спасителя подведу. Это большевики по нему дали очередь, да так и оставили здесь. А от него – чудесные исцеления теперь бывают тем, кто попросит с верою» [5, с. 274]. В «Досточке»: «Но, возможно, если он попал тогда к старцу Кириллу, то понял, Кому надо возносить благодарственные молитвы за свое чудесное спасение» [Там же, с. 291]. Приведенные примеры иллюстрируют результат соприкосновения с высшими силами – исцеление, спасение, то есть материальное доказательство существования Бога, силы христианской веры. В таких явлениях наиболее ярко проявляется сила и слава Бога.
Второе значение прил. чудесный ‘волшебный, полный чудес’ представлено в нескольких контекстах. В рассказе «Цветы для плащаницы» и в двух других чудесный в этом значении ассоциируется с некоей историей : «Возвращались они, исполненные света и радости, и рассказывали такие чудесные истории , что мне, конечно, тоже очень хотелось поехать к нему» [Там же, с. 248]. Как правило, эти истории повествуют о чудесах, свершившихся с помощью православной веры.
Значение прил. чудесный ‘прекрасный, удивительный по красоте, очень хороший’ реализовано во многих контекстах, например: «Их-то я и везла с собой в Печоры, поскольку останавливаться мы собирались у одной чудесной , но очень бедной монахини, и мне хотелось не то что даже не обременять ее нашей кормежкой, а еще и подкинуть ей продуктов» («Халва») [Там же, с. 489]. В рассказе «Подвески королевы»: «Так, у меня была чудесная белая английская шубка, подаренная мне нашим другом – английским корреспондентом Тони Робинсоном» [Там же, с. 311]. В приведенных фрагментах чудесный лишь характеризует высокое качество предмета, но никак не подчеркивает отношение его к чуду в первом значении.
Прил. чудотворный выражает два словарно фиксированных значения, наиболее частотно первое: «Обладающий способностью, по религиозным представлениям, совершать чудеса» [6, с. 692]. Из 14 словоупотреблений 11 раз эта лексема выступает в словосочетании чудотворная икона. Например, в рассказе «Не знаете, чего просите»: «Узнав, что есть такой чудный святой – Трифон-мученик, которому молятся, прося его именно о замужестве, она стала ходить в храм Знамения Божией Матери, где была его чудотворная икона , и заказывать ему молебны» [5, с. 338].
Рассмотрев центр ЛСП «Чудо» – ключевые слова одноименного словообразовательного гнезда, приходим к следующим выводам.
Лексема чудо чаще всего выступает в первом значении «сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, потусторонней силы»», и производные прил. чудесный, чудотворный мотивированы именно им. Следовательно, для героев сборника «Небесный огонь» чудо – любое событие, не поддающееся разумному объяснению, случайное совпадение, удивительное спасение и т. п. С точки зрения верующих в Бога персонажей, эти события одновременно и логичны (свидетельство существования Бога, укрепление веры), и удивительны (милость и дар от Бога). Каждый рассказ – свидетельство того, что с верой возможно все, и доказательства этого иногда приходят через чудесные или чудотворные предметы.
Лексико-семантическое поле «Чудо» в рассказах Николаевой представляет собой обширную разветвленную сеть, включающую разнокорневые репрезентанты различных частей речи, так как чудо – одна из главных тем творчества этого автора. Реконструкция ЛСП «Чудо» в его полном объеме, с учетом не только морфемно-словообразовательных, но и других семантических связей, – задача будущего.
Список литературы Словообразовательное гнездо "чудо" как центр одноименного лексико-семантического поля (на материале рассказов О. А. Николаевой)
- Волков В. В. Аспекты изучения русского словообразования // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 1. С. 84-88.
- Волков В. В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика текста: курс лекций / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 147 с.
- Волков В. В., Волкова Н. В. Семантическая доминанта и семантическое поле как опорные единицы анализа художественного произведения // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 279-283.
- Куренкова Т. Н. Лексико-семантическое поле и другие поля в современной лингвистике // Сибирский журнал науки и технологий. 2006. № 4 (11). С. 173-178.
- Николаева О. А. «Господи, что с нами будет?» и другие рассказы. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. 704 с.
- Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. Т. 4. М.: Рус. яз., 1984. 794 с.
- Тюрин В. Б. Лексико-семантическое поле «Родина» в лирике Н.М. Рубцова: общий взгляд // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 3 (13). C. 71-77.