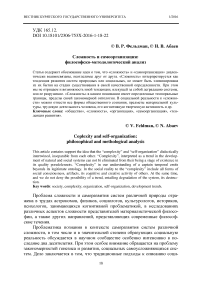Сложность и самоорганизация: философско-методологический анализ
Автор: Фельдман Владимир Романович, Абаев Николай Вячеславович
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит обоснование идеи о том, что «сложность» и «самоорганизация» диалектически взаимосвязаны, неотделимы друг от друга. «Сложность» интерпретируется как тенденция развития систем природных или социальных, не может быть элиминирована из их бытия на стадии существования в своей качественной определенности. При этом мы не отрицаем и возможность иной тенденции, влекущей за собой деградацию системы, или ее разрушение. «Сложность» в нашем понимании имеет определенные темпоральные границы, пределы своей закономерной онтологии. В социальной реальности к «сложности » можно отнести все формы общественного сознания, предметы материальной культуры, трудовую деятельность человека, его когнитивную творческую активность и др.
"общество", "сложность", "организация", "самоорганизация", "тенденция развития"
Короткий адрес: https://sciup.org/148317395
IDR: 148317395 | УДК: 165.12. | DOI: 10.18101/2306-753X-2016-1-18-22
Текст научной статьи Сложность и самоорганизация: философско-методологический анализ
Проблема сложности и саморазвития систем различной природы отражена в трудах астрономов, физиков, социологов, культурологов, историков, психологов, занимающихся когнитивной проблематикой, в исследованиях различных аспектов сложности представителей материалистической философии, а также других направлений, представляющих современные философские течения.
Проблематика познания в контексте саморазвития систем различной сложности, в том числе и в значительной степени образующих социальную реальность обсуждается в научном сообществе особенно интенсивно в последние два десятилетия. При этом особое внимание обращается на проблему закономерностей генезиса и развития, социальных самоусложняющихся систем. Дело заключается в том, что традиционные подходы к описанию соци- альной действительности далеко не всегда могут быть объяснены с позиции традиционных концепций причинной обусловленности становления и развития самоусложняющихся систем общественной природы.
Конкретные проблемы исследования сложности систем природной и социальной природы получили отражение в трудах Абдеева Р. Ф., Абаева Н. В., Горского Ю. М., Измайлова И. В., Пойзнера Б. Н., Карташова А. А., Клочко В. Е. Князевой Е. Н., Лобовникова В. О., Минасяна Л. А., Рузавина Г. И., Степина В. С., Осипова Ю. М., Ситниковой Д. Л., Черниковой И. В., Черниковой Д. В., Чешева В. В, и др.
Исследования Р. Ф. Абдеева посвящены, в частности, описанию уровней организации материи, что создает целостный образ самоусложняющейся социальной реальности, включающий представление об уровнях организации материи, специфики взаимосвязи информационного и энергетического аспектов в процессах самоорганизации материи [1].
В работах Н. В. Абаева содержится описание закономерной динамики традиционного общества Центральной Азии, оно предстает не как абсолютно статичное, но в качестве изменяющееся в области религиозномифологического сознания, которое представлено образами пребывающего в цивилизационного статуса «тенгрианства», а затем буддийской системной организации, хотя и не упускается из внимания культурная составляющая его бытии в исторической действительности [2].
Ю. М. Горский обратил внимание на то, что сложные материальные системы, к которым относятся и общества, обладают относительной внутрисистемной устойчивостью («гомеостатичностью»). Внутрисистемная устойчивость сложных систем обеспечивается благодаря существованию и функционированию механизмов организации, которые им присущи. Однако, по Горскому, сложные системы в природе и в обществе имеют опасные точки для приложения возмущений, которые могут являться причинами их дезорганизации. Так что существование системы в ее качественной определенности зависит от состояния антиэнтропийных механизмов системной организации. В представлении Ю. М. Горского в обществе наиболее опасной точкой для приложения возмущений является его «иммунная система». К иммунной системе он относит систему ценностей, которые опредмечены в обществе, в его социальных и политических структурах, в социальных отношениях и организациях. Он полагает, что иммунная система функционирует эффективно до тех пор, пока население признает и поддерживает ее аксиологическое содержание. Следовательно, по Горскому, для того, чтобы ввести общество в кризисное состояние, достаточно изменить отношение большинства к его фундаментальным ценностям. Ю. М. Горский считает, что если в иммунную систему внедрить «вирус», то есть информацию, ставящую по сомнение базовые социально-политические ценности, то может начаться процесс саморазрушения социальной системы [3].
В текстах И. В. Измайлова, Б. Н. Пойзнера представлена концепция о том, что самоусложнение человечества вызвало сингулярность как фактор, задающий направление радикальной трансформации глобальной социальной системы, что привело к исчерпанию ресурсов, переходу к стационарному состоянию мира, когда неизбежным становится уменьшение потока научных знаний [4].
В статье В. Е. Клочкова на примере психологии рассматривается проблема усложнения профессионально-психологического мышления в процессе становления психологического познания. Выделяются три уровня сложности мышления: простое мышление свойственное классической науке; сложное мышление, свойственное для неклассической науки; сверхсложное мышление, которое проявляется в науке, осваивающей постнеклассическую парадигму [5].
Л. А. Минасян, исследуя методологию познания сложных саморазви-вающися систем, приходит к заключению, что между моделями трансцендентными и одноименными с ними типами научной рациональности прямой корреляции нет. Он полагает, что смена типов научной рациональности в поисках разрешения возникающих в науке проблем представляет собой восхождение к классической трансцендентальной философии [6].
Д. В. Ситникова предлагает способ описания роли научной экспертизы в процессе становления научного знания, который основан на использовании концепта «репликатор», «субъект самоорганизации» [7].
В коллективной статье И. В. Черниковой и Д. В. Черниковой рассматриваются два подхода в понимании сложности. В первом сложность понимается как характеристика объективных свойств систем. Здесь исследователи выявляют и анализируют параметры сложности. Во втором термин сложность используется не для описания объективных свойств и не в противопоставлении сложного простому, а для фиксации когнитивных аспектов взаимосвязи субъекта и среды [8].
Ю. М. Осипов в контексте осмысления проблемы сложности приходит к следующим заключениям. Система (открытая, обладающая свойством самоорганизации) есть природное целое. Движение самоорганизующейся материи – не просто движение, но движение, имеющее целостный характер. Оно обусловлено целостностью самой организацию. Каждая конкретная организация – система. Сложная конкретная организация есть система систем [9].
Здесь мы видим некоторое критериальное обоснование концепции сложности материальных систем различной природы.
В онтологической концепции Г. И. Рузавина содержится обоснование того, что изучение систем не должно сводиться к простому описанию их эволюции, а должно предполагать исследование перехода от систем низшего уровня организации к системам более высокой организации и сложности. В контексте современного этапа космологии процесс возникновения Вселенной представляется как состоящий из перехода от простейших физических систем и структур, состоящих из немногих типов элементарных частиц, к системам 20
все более сложным, как по уровню своей организации, так и по типу взаимодействия между своими элементами [10].
Таким образом, современная наука и философия приходит к однозначному заключению, о том, что в существующей реальности проявляется тенденция не только к сохранению сложных систем, но и стремление к их дальнейшему самоусложенению, причем на всех уровнях материального мира.
В. В. Чешев в монографии, посвященной исследованию проблем познания в философии, обращает внимание на особенности формирования идеализированных объектов, образующих онтологическое пространство науки. При этом он ссылается на рассуждения В. С. Степина, который полагает, что в контексте становления теоретического знания возникают различные уровни реконструкции исследуемого объекта. То есть он предстает в статусе некоторой сложности. В идеализируемом объекте выделяются уровни сложности его организации. Нижний уровень представлен эмпирической схемой, «сни-мающй» сетку взаимоотношений, реализованную определенной совокупностью практических ситуаций, которые в развитой науке представлены предметной структурой эксперимента. Подобным же образам соотносятся частная теоретическая схема и совокупность эмпирических схем и, соответственно, фундаментальная схема и частные теоретические схемы [11].
С нашей позиции концепт неопределенности несет в себе онтологическая тема энтропийности и негэнтропийности сложных систем несущих в себе тенденцию к собственной самоусложняющейся организации. Мы полагаем, что данная тенденция связана с естественной потребностью систем, тяготеющих к собственному усложнению, образовывать в своем сущностном содержании механизмы, способные обеспечивать устойчивость организации и одновременно способствовать дельнейшему развитию системной структуры.
Во всяком случае, не может быть поставлено под сомнение то, что в цивилизационно-исторической реальности, если мы обращаемся только к общественной проблематике, обнаруживается примерно одна и та же тенденция. Мы имеем в виду усложнение форм общественного сознания, которое далеко не всегда может быть объяснено сознательной целенаправленной активностью конкретных личностей, особенно на начальных стадиях цивилизационного бытия. Это можно отнести к генезису ранних форм религии, морали, эстетических форм общественного сознания и даже к образованию идеологических концепций, играющих важную роль в бытии первоначальных имперских форм государственности.
В дальнейшем, на более зрелых стадиях цивилизационно-исторического процесса тенденция усложнения социальных систем приобретает в значительной мере личностный характер, хотя это и не снимает ее первоначальный онтологический смысл.
Список литературы Сложность и самоорганизация: философско-методологический анализ
- Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. Москва: ВЛАДОС, 1994. С. 160 -181.
- Абаев Н. В. Тэнгрианство, митраизм и общие этнокультурные истоки турано-арийской цивилизации Центральной и Внутренней Азии//Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. -Вып. 3. Улан-Удэ, 2015. С. 42 -59.
- Горский Ю. М. Информация как средство организации и дезорганизации//Социально-политический журнал. 1994.№3.С.6 -10.
- Измайлов И. В., Пойзнер Б. Н. Сложность социальных связей и сингулярность//Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4 (20).Вып. 1. С.27 -32.
- Клочко В. Е. Уровни сложности психологического мышления и современная когнитивистика//Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4 (20). Вып. 1. С. 37-43.