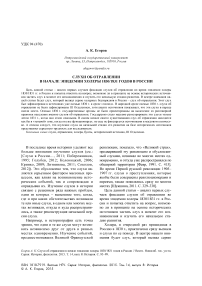Слухи об отравлении в начале эпидемии холеры 1830/1831 годов в России
Автор: Егоров Александр Константинович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи - анализ первых случаев фиксации слухов об отравлении во время эпидемии холеры 1830/1831 гг. в России и попытка ответить на вопрос, возможно ли в принципе на основе исторических источников застать слух в момент его возникновения и изучить его начальную стадию развития. В центре внимания нашей статьи будет слух, который вызвал серию холерных беспорядков в России - слух об отравлении. Этот слух был зафиксирован в источниках уже осенью 1830 г. в среде «господ». В народной среде осенью 1830 г. слухи об отравлении не были зафиксированы III Отделением, хотя анализ источников показывает, что эти слухи в народе имели место. Осенью 1830 г. государственные органы не были ориентированы на выделение из разговорной практики населения именно слухов об отравлении. Государство стало массово регистрировать эти слухи только летом 1831 г., когда они стали опасными. В самом начале своего существования слух об отравлении находится как бы в «теневой» зоне, когда он уже функционирует, но еще не фиксируется источниками в массовом количестве. А отсюда следует, что изучение слуха на начальной стадии его развития на базе исторических источников представляет серьезную трудность для исследователя.
Слухи, отравление, холера, бунты, исторический источник, iii отделение
Короткий адрес: https://sciup.org/147219437
IDR: 147219437 | УДК: 94
Текст научной статьи Слухи об отравлении в начале эпидемии холеры 1830/1831 годов в России
В последнее время историки уделяют все больше внимания изучению слухов (см.: [Слухи в России…, 2011; Побережников, 1995; Голубев, 2012; Колоницкий, 2006; Кринко, 2009; Литвинова, 2011; Соколов, 2012]). Это обусловлено тем, что слухи являются серьезным фактором массовых процессов, как влияя на возникновение исторических событий, так и сопровождая и оправдывая их. Изучение слухов в истории связано с решением ряда важных проблем, одни из которых – выяснение того, когда, где и при каких обстоятельствах возникали те или иные слухи, в одном или многих местах возникали, откуда и куда распространялись, а также реконструкция начальной версии слуха.
Например, в историографии есть точка зрения, что одни и те же слухи могут возникать независимо друг от друга в разных местах одновременно. Изучение событий, предшествовавших Великой Французской революции, показало, что «Великий страх», предварявший эту революцию и обусловленный слухами, возникал во многих местах одновременно, и оттуда уже распространялся по обширной территории [Февр, 1991. С. 415]. Во время Первой русской революции 1905– 1907 гг. слухи о преступлениях, которые якобы были совершены революционерами и евреями, также появлялись сразу во многих местах [Шукшина, 2011. С. 329–330].
Цель данной статьи – анализ первых случаев фиксации слухов об отравлении во время эпидемии холеры 1830/1831 гг. в России и попытка ответить на вопрос, возможно ли в принципе на основе исторических источников застать слух в момент его возникновения и изучить его начальную стадию развития.
Холера, в очередной раз пришедшая в Россию в 1830 г., практически сразу вызвала и слухи по ее поводу. В центре нашего внимания будет слух, который вызвал серию
Егоров А. К. Слухи об отравлении в начале эпидемии холеры 1830/1831 годов в России // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 95–99.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История
холерных беспорядков в России – слух об отравлении, широко ходивший в народной среде [Каратыгин, 1887. С. 72; Гессен, 1932. С. 11]. Этот слух был зафиксирован в источниках уже осенью 1830 г., в самом начале холерной эпидемии в России. При этом социальной средой, где он был первоначально зафиксирован, были отнюдь не народные массы, а представители «господ» – помещики, чиновники, военные.
Утром 19 октября 1830 г. в доме гвардии подполковника Пересекина в Симбирске состоялся разговор, о котором стало известно из донесения в губернское правление одного из его участников, губернского лесничего Павлова. Согласно донесению, находившийся в доме губернский прокурор Заварицкий, говоря о холере, сказал, что «он слышал, якобы в здешний Исаакиевский колодец положен яд, дабы через сие произвести болезнь», на что Павлов возразил, что «это слишком ложные и даже вредные слухи» 1.
Во время последовавших после донесения Павлова разбирательств упомянутый выше Заварицкий не остался в долгу перед Павловым и рассказал, что Павлов, говоря о мерах против холеры, заявил, что «больных холерой вовсе в Симбирске нет, и что полицейские чиновники без всякой нужды оцепляют дома по своим видам и на карантинах делают разные притеснения». На это показание За-варицкого Павлов возразил, что Заварицкий «представил его слова в превратном свете, чтобы Павлов не огласил собственных его прокурора рассказов о разных нелепых разносимых в городе слухах» 2.
В этом эпизоде мы видим мотивы и детали, которые позднее будут активно фиксироваться в других местах и станут типичными для холерных слухов. Во-первых, отравление колодцев ядом – распространенная тема слухов лета 1831 г. [Гессен, 1932. С. 11]. Во-вторых, что холеры нет, и что чиновники, преследуя корыстные цели, притесняют жителей в их домах и на карантинах [Каратыгин, 1887. С. 19; Гессен, 1932. С. 6]. Заметим здесь и то, что Заварицкий изложил первый мотив, а Павлов, его оппонент, изложил второй мотив.
Из этого эпизода следует также, что источником данных «разглашений» стали слу- хи, которые участники разговора слышали где-то на стороне, скорее всего, в народной среде. Из слов Павлова следует, что Зава-рицкий рассказывал еще о каких-то «нелепых» слухах, которые, однако, не привлекли внимания ни участников разговора, ни чиновников, расследовавших это дело, возможно, по причине своей малой опасности. Что касается слов Павлова о том, что больных холерой в Симбирске нет и о злоупотреблениях чиновников, то они также могли быть услышаны Павловым где-то в народной среде.
Другой случай оглашения «опасных» слухов о холере был зафиксирован в ноябре 1830 г. и также не в народной среде. Заседатель херсонского земского суда Попов 24 ноября 1830 г. донес исправляющему должность херсонского гражданского губернатора, что, прибыв по службе в имение помещика Херсонского уезда, отставного губернского секретаря Ивана Блажкова, войдя к нему в дом, услышал, что Блажков говорил такие слова: «Он слышал, что граф Воронцов (новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. – А. Е. ) выпустил 120 человек иностранцев под названием шпионов с разными вредными лекарствами, которые ходят по разным местам Херсонской губернии и вредят не только давая жителям под видом излечительным, но бросая тайным образом в колодцы, от чего самого существует и болезнь, под названием якобы холера, которых (иностранцев) поймано в с[еле] Александровке головою Сычевым три человека». Эти слова Блажкова слышали еще три человека, находившиеся в доме, помещик штабс-капитан Рогуля и двое офицеров Полоцкого пехотного полка, поручики Бердяев 2-й и Бердяев 3-й 3.
На следствии Блажков заявил, что он ничего подобного не говорил, но присутствовавшие при разговоре под присягой показали обратное. Бердяев 2-й показал, что он «застал разговор о каких-то иностранцах, выписанных якобы графом Воронцовым, ходивших по разным местам с заразительными лекарствами, кои по сомнению и пойманы в Александровке головою, но куда они представлены и от кого Блажков сие слышал ему Бердяеву неизвестно» 4.
Рогуля показал, что Блажков говорил, что «какая-то александровская женщина сказывала ему, что посланные от графа Воронцова 120 человек иностранцев кидают отраву в колодцы и берут за хлеб покупая (видимо, речь идет о том, что яд вкладывали в хлеб. – А. Е. ), от чего отрава пристает и люди умирают» 5.
Бердяев 3-й (брат Бердяева 2-го) показал, что «слышал говоренные Блажковым слова, что графом Воронцовым распущены люди по Херсонской губернии с разными вредными лекарствами, коим наносят болезнь, о чем он Блажков слышал от некоего александровского жителя» 6.
В описанном эпизоде мы также видим активно фиксировавшийся в слухах уже летом 1831 г. мотив – о том, что людей травят иностранцы [Каратыгин, 1887. С. 26, 72; Гессен, 1932. С. 24]. Что касается источника зафиксированного слуха, то он находился в народной среде.
Итак, нами были изложены первые зафиксированные в 1830 г. III Отделением слухи об отравлении. Более того – это единственные по состоянию на осень 1830 г. случаи фиксации слухов об отравлении в фонде III Отделения, учреждения, которое уделяло большое внимание регистрации слухов. Что касается основного массива сообщений о зафиксированных слухах об отравлении, то они приходятся на лето следующего, 1831 г., при этом слухи фиксировались уже именно в народной среде, среди крестьян и горожан. Эти слухи, судя по сообщениям источников, имели очень активное хождение, вызывая массовую панику, волнения и бунты, подобные событиям в новгородских военных поселениях (см.: [Евстафьев, 1934]).
Нас интересует вопрос: почему слух об отравлении не был прямо зафиксирован в народной среде еще осенью 1830 г., хотя, судя по изложенным выше эпизодам, мы знаем, что слухи об отравлении в народе ходили и что именно народная среда была источником «опасных» разговоров среди «господ»? На наш взгляд, у этого факта есть две взаимосвязанные причины. Первая – это то, что осенью 1830 г. слухи об отравлении еще не были очень интенсивными, людей больше беспокоили санитарные кордоны, мешавшие торговле и передвижению населения, а также врачи, которые якобы убивали людей в больницах [Каратыгин, 1887. С. 16; Канищев и др., 2009. С. 160]. Вторая – это то, что слухи об отравлении не вызвали осенью 1830 г. массовых противозаконных действий населения. Именно по этим двум причинам мы знаем о хождении слухов в народе осенью 1830 г. только из их обсуждения «господами», вернее, благодаря «бдительности» отдельных его участников, как раз и определивших их первыми как «слишком ложные и даже вредные слухи» и не замедливших донести о них «куда надо».
Осенью 1830 г. государственные органы не были ориентированы на выделение из разговорной практики населения именно слухов об отравлении. Когда же слух об отравлении стал интенсивным и опасным, вызвав волнения, а это случилось уже летом 1831 г., вот тогда государство сориентировалось на первоочередной поиск и регистрацию именно этого слуха, и именно поэтому основная масса сообщений о нем приходится на лето 1831 г.
Все это позволяет сделать вывод о том, что в самом начале своего существования слух находится как бы в «теневой» зоне, когда он уже функционирует, но еще не фиксируется источниками в массовом количестве.
Описанные нами эпизоды есть чистая случайность, казус, который на мгновение вывел слухи об отравлении из тени, чтобы они вновь вернулись в нее уже до лета 1831 г. Нужно понимать, что в случае с другими слухами такой удачи для исследователя, как случайная фиксация, могло и не быть. А отсюда следует, что изучение слуха в момент его возникновения и на начальной стадии его развития на базе исторических источников представляет серьезную трудность для ученого. Слух на уровне массовых регистраций, репрезентативных для адекватного анализа, появляется в источниках уже в «зрелом» виде, уже пройдя начальный этап своего развития. Это обстоятельство нужно учитывать при изучении слухов в рамках исторического исследования.
Список литературы Слухи об отравлении в начале эпидемии холеры 1830/1831 годов в России
- Гессен С. «Холерные бунты» (1830-1832 гг.). М.: Изд-во Всесоюз. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. 62 с.
- Голубев А. В. Крестьянские слухи и толки: источник или предмет исследования? (на примере внешнеполитических представлений 1920-х гг.)//Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2011. № 1. С. 301-313.
- Евстафьев П. П. Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г. М.: Изд-во Всесоюз. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934. 249 с.
- Канищев В. В., Мещеряков Ю. В., Яковлев Е. В. Тамбовский бунт 1830 г. в контексте холерных кризисов в России XIX века. Тамбов: Изд. дом ТамбГУ им. г. Р. Державина, 2009. 345 с.
- Каратыгин П. Холерный год. 1830-1831. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. 243 с.
- Колоницкий Б. И. Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914-1917)//Вестн. истории, литературы, искусства. М., 2006. Т. 3. С. 362-378.
- Кринко Е. Неформальная коммуникация в «закрытом обществе». Слухи военного времени (1941-1945)//Новое лит. обозрение. 2009. № 100. С. 494-508.
- Литвинова О. А. Роль слухов в политической жизни Алтайской губернии (1920-1923 годы)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 1: История. С. 110-115.
- Побережников И. В. Слухи в социальной истории: типология и функции (по материалам восточных регионов России XVIII-XIX вв.). Екатеринбург: Банк культурной информации, 1995. 59 с.
- Слухи в России XIX-XX веков. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории: Сб. ст. Челябинск: Каменный пояс; Челябинский дом печати, 2011. 368 с.
- Соколов Ю. А. Слухи в деревне Европейского Севера России в октябре 1917-1922 гг.: пропагандистские коннотации//Вестн. Череповецкого гос. ун-та. 2012. Т. 1. № 3. С. 21-23.
- Февр Л. Гигантский лживый слух: великий страх июля 1789 года//Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 411-421.
- Шукшина Т. А. «За веру, царя и отечество!»: слухи и радикальный патриотизм в России октября 1905 г.//Слухи в России XIX-XX веков. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории. Челябинск, 2011. С. 321-333.