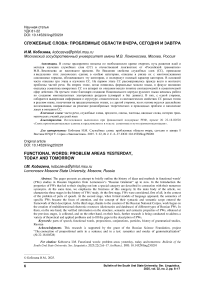Служебные слова: проблемные области вчера, сегодня и завтра
Автор: Кобозева И.М.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Статья в выпуске: 2 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка по необходимости кратко очертить путь развития идей и методов изучения служебных слов (СС) в отечественной лингвистике от «Российской грамматики» М.В. Ломоносова до настоящего времени. Во Введении свойства служебных слов (СС), приведшие к выделению этих лексических единиц в особую категорию, описаны в увязке их с многочисленными синонимами термина, обозначающего эту категорию, и подчеркнут полевый характер категории. В основной части описаны три этапа в изучении СС. На первом этапе СС рассматривались прежде всего в контексте проблемы частей речи. На втором этапе, когда появились формальные модели языка, в фокусе внимания оказалась семантика конкретных СС и в аппарат их описания вошло понятие синтаксической и семантической сфер действия. На третьем этапе благодаря созданию Национального корпуса русского языка началась работа по созданию многоаспектных электронных ресурсов (словарей и баз данных). В них, с одной стороны, собирается выверенная информация о структуре, семантических и синтаксических свойствах СС разных типов в русском языке, полученная на предшествующих этапах, а с другой стороны, на их основе ведутся дальнейшие исследования, направленные на решение разнообразных теоретических и прикладных проблем и заполнение лакун в описании СС.
Части речи, служебные слова, предлоги, союзы, частицы, вводные слова, история грамматических учений, русский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147252046
IDR: 147252046 | УДК: 81-22 | DOI: 10.14529/ling250201
Текст научной статьи Служебные слова: проблемные области вчера, сегодня и завтра
Грамматический и одновременно лексикологический термин служебные слова (functional words в англоязычной литературе) обозначает особую категорию лексических единиц языка и широко используется в лингвистике, не имея при этом общепринятого строгого определения, опираясь на которое можно было бы во всех случаях однозначно решить вопрос об отнесенности слова в том или ином языке к данной категории. Косвенно об этом свидетельствует обилие синонимов этого термина. Так, в словаре О.С. Ахмановой [3] приведено более десяти синонимов, именующих слова данного типа грамматическими, зависимыми, неполнозначными, несамостоятельными, пустыми, синкате-горематическими, синсемантическими, формальными, частичными и т. д. В более близкое к нам время к этому синонимическому ряду добавился термин структурные слова [34]. И такая ситуация характерна не только для русской лингвистической терминологии. Из словаря [4] для functional word можно извлечь такие синонимы, как syntactic word , syncategorematic word , synsemantiс word. connecting word , empty word, а по словарю [3] добавить к ним и connecting word .
Своей внутренней формой многочисленные синонимы термина СС отсылают к параметрам, по совокупности которых категория СС противопоставлена словам других категорий. Общим местом когнитивного подхода к языку стало признание того факта, что все традиционные лингвистические категории не являются категориями в том строгом понимании, которое присуще Аристотелевской логике. Так и категория СС представляет собой нечеткое множество с размытыми границами. Иначе говоря, она имеет полевую структуру, в центре или ядре которой сосредоточены прототипические члены категории, обладающие максимальным набором типичных для нее свойств, а на периферии – те, у которых одно или более из таких свойств могут отсутствовать.
CC противопоставляются прочим словам языка по следующим параметрам. Во-первых, это параметр открытости / закрытости класса. Прототипические СС, к которым относятся первообразные предлоги, союзы и частицы, образуют закрытые классы1, т. е. классы небольшого объема, не пополняемые новыми элементами2. Закрытость клас- са является отличительной формальной чертой грамматических единиц языка в отличие от лексических, на что в русской грамматической школе еще в XIX в. указывал Ф.И. Буслаев [11, с. 288]. Эту характеристику СС отражают такие синонимы, как формальные слова и грамматические слова. Во-вторых, прототипические СС отличаются от прочих лексических классов по синтаксическим параметрам: они не способны быть членами предложения и выступать в качестве независимого предложения, полного или неполного (например, ответа на вопрос)3. Эту характеристику СС выделяют такие синонимы, как несамостоятельные, или зависимые слова. Третий параметр – семантический. СС выражают информацию, относящуюся к сфере грамматической семантики, то есть к таким областям, которые в тех или иных языках мира кодируются показателями категорий, являющихся грамматическими в понимании Ф. Боаса – Р.О. Якобсона [51], то есть обладающие свойствами обязательности и регулярности. Характеризуя на основе типологических разысканий вклад лексических и грамматических средств языка в семантическую репрезентацию4 (СР) предложения, Л. Талми писал, что лексическая часть предложения кодирует в основном содержание (content), или сущность (substance) СР, а грамматическая – в основном ее структуру [56, с. 16]. СС не участвуют в выражении сущностного, субстанциального содержания, что, собственно, и дает основание для именования их пустыми (empty) или незнаменательными словами. Они кодируют структуру субстанции содержания, что непосредственно отражает такой синоним СС, как структурные слова. А структура создается прежде всего отношениями. И действительно, СС выражают разного рода отношения: пространственные, временные ролевые отношения внутри ситуации (предлоги), временные и логические отношения между ситуациями (союзы, предлоги), отношения содержания к действительности и отношения говорящего к содержанию (объективно- и субъективно-модальные частицы). Наконец, четвертый параметр – просодический, на который применительно к русскому языку указал Л.В. Щерба еще в 1928 г.: СС не могут нести фразовое ударение, кроме случая выделения слов по контрасту [49, с. 82]).
Итак, ядро категории СС – это закрытый класс фразово-безударных слов, не способных к незави-
“союзными соединениями”, в [46] насчитывает более 600 единиц.
симому употреблению и наряду с собственно грамматическими средствами служащих для выражения разного рода отношений, создающих структуру семантической репрезентации предложения. Периферия категории СС – это слова с теми же семантическими характеристиками, пополняющие ядро СС в процессе грамматикализации знаменательных слов и словосочетаний СС друг с другом и со знаменательными словами.
Цель данной статьи – очертить путь развития исследований, посвященных СС, рассмотреть их современное состояние в отечественной науке о русском языке и выделить актуальные проблемы, которые привлекают особое внимание в настоящее время. При этом мы не претендуем на исчерпывающий охват проблематики и не настаиваем на предлагаемой трактовке изменений в приоритетах.
Этапы развития исследований, посвященных служебной лексике
Предельно упрощая, в истории изучения СС в рамках отечественной лингвистической традиции можно условно выделить три не равных по объему этапа.
Первый этап
На первом этапе, вмещающем развитие грамматических учений от XVIII до середины ХХ в., СС рассматривались прежде всего в контексте проблемы частей речи. В результате в русском языке были выделены три общепринятые служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. При этом из трех principium divisionis, используемых при выделении частей речи – морфологического, синтаксического и семантического (на просодический долгое время не обращали внимания) – в силу неизменяемости прототипических СС оставалось опираться на их синтаксические и семантические свойства.
Использование семантических и синтаксических характеристик при определении частей речи в отечественных грамматиках русского языка началось не позднее второй половины XVIII в., что можно наблюдать в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова, где описаны две служебные части речи – предлоги и союзы. Предлоги семантически характеризуются как служащие “для знамено-вания обстоятельств, к вещам или к переменам принадлежащих” [32, с. 24], а единой синтаксической характеристики не имеют, так как по синтаксическим свойствам разделяются на три нерядопо-ложные субкатегории (предлоги, не совпадающие с наречиями; предлоги, способные выступать как наречия; приставки) в зависимости от того, с чем и как они соединяются [32, с. 181–183]. Союзы “понятий соответствие между собою показывают”, напр., союзы хоть и да (Хоть вижу, да не разумею) “показывают взаимность видения и разумения” [32, с. 24]. Субкатегоризация союзов на основе их линейной позиции в сложном предложении дает их разделение на “предыдущие” (напр., ежели, хотя) и “последующие” (напр., то, но), что в настоящее время трактуется как позиции союза и его коррелята, образующих “двухместные союзы” [45]. А семантическая субкатегоризация во многом совпадает с современной [32, с. 183].
Развитие синтаксической науки в дальнейшем привело к существенному уточнению определений как самих служебных частей речи, так и их синтаксических и семантических субкатегорий. Однако неформализованность лингвистических теорий имела своим следствием нестрогость оснований классификации СС, из-за чего категориальная принадлежность многих СС остается спорной по сей день. Ср. нерешенность вопроса о том, является ли кроме предлогом или союзом, является ли ведь союзом или частицей и т. п.
Уже в первой половине ХХ в. В.В. Виноградов ввел в репертуар лексико-грамматических категорий русского языка категорию вводных (модальных) слов (ВС) [12], которая на основе традиционных синтаксических критериев, а также семантического и просодического критериев вполне может быть отнесена к служебным частям речи: ВС синтаксически не самостоятельны, не являются членами предложения, выражают либо отношение говорящего к высказыванию (как модальные частицы), либо отношения между высказываниями или их частями (как союзы) и не могут нести фразовое ударение. Эта категория также не имеет четких границ.
Следует отметить, что такие выдающиеся грамматисты первой половины XX в., как А.М. Пешков-ский и Л.В. Щерба отвергали классификационный подход к проблеме частей речи, выдвигая на первый план существование в языке категорий слов, обладающих специфическим сочетанием семантических и формальных (морфологических, синтаксических и прочих наблюдаемых свойств, напр., просодических). Они допускали не только существование слов, которые можно отнести к более чем одной части речи, но и слов, не относящихся ни к одной из них, ср. “... нас не должно тревожить, если некоторые полные (= знаменательные – Прим. И.К.) слова не окажутся никакими частями речи” [37, с. 135]; “... нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, – значит, они действительно не подводятся нами ни под какую категорию.... Разные усилительные слова вроде даже, ведь, и (=“даже”), слова отчасти союзного характера вроде итак, значит и т. п. тоже никуда не подводятся нами и остаются в стороне. Наконец, никуда не подводятся такие словечки, как да, нет” (Цит. по [48, с. 81]). В этой связи нельзя не упомянуть о категории “строевых слов”, выделенной Л.В. Щербой в 40-е гг. XX в. (см. [50] – переиздание сборника его статей, вышедшего в 1948 г.), к которой относятся слова, знаменательные в своем прямом номинативном значении, но хотя бы в одном из своих употреблений выполняющие функцию служебных. Игаче говоря, это лексикосемантические варианты (ЛСВ) полнозначных слов, имеющие грамматическое значение (в смысле отображения не субстанции, а структуры высказывания). Строевые слова также можно считать периферией служебной лексики, покольку синтаксически они ведут себя иначе, чем прототипические СС.
Что касается семантики СС русского языка, то она не была на рассматриваемом этапе предметом детального исследования, хотя начиная с первого толкового словаря русского языка [40] значение служебных слов приходилось так или иначе “толковать”. Не имея возможности в рамках данной статьи углубляться в анализ конкретных способов описания значения СС в толковых словарях и грамматиках первого этапа, мы можем обобщенно охарактеризовать их как попытки обобщенно обозначить семантическое отношение, выражаемое СС, или функцию, им выполняемую в терминах “условия”, “причины”, “ограничения”, “усиления”, “выделения” и т. п.
Проблема частей речи была на первом этапе изучения служебных слов, разумеется, не единственной. Появление в XIX в. сравнительноисторического метода поставило на научную основу вопрос о происхождении СС, и было показано, что многие СС происходят из знаменательных слов и в процессе исторического развития языка могут стать грамматическими морфемами, показателями грамматических значений. Смена научной парадигмы в начале XX в., победное шествие структурализма оттеснило поиск закономерностей формирования СС и их дальнейшей судьбы на второй план. Однако такие исследования велись, см., напр., монографию Б.В. Лаврова [3 1], в которой на основе анализа памятников письменности XII– XVII вв. были выявлены закономерности и способы образования условных и уступительных союзов.
Второй этап
Второй этап в исследовании служебной лексики связан, с одной стороны, с появлением формальных теорий языка, а с другой – с так называемым коммуникативно-прагматическим поворотом, а также становлением лингвистики текста и дискурсивного анализа. Формализация описания языка с применением методов и инструментов формальной логики на Западе началась с конца 50-х гг. XX в., с появления первого варианта теории порождающих грамматик Н. Хомского [52], а в отечественной лингвистике – с конца 60-х, с появления теории моделей “Смысл Текст” (МСТ), в полном ее виде впервые представленной с монографии И.А. Мельчука [33]. Исследования в области лингвистической прагматики и анализа дискурса начались десятилетием позже: на Западе с конца 60-х, в СССР – с конца 70-х.
Приход в лингвистику формальных методов коснулся всех разделов лингвистики, в том числе синтаксиса и семантики. Для построения инте- гральной формальной модели языка требовались строгие определения всех используемых в ней понятий. Формализация синтаксических структур позволяла ввести строгие синтаксические критерии, столь необходимые для уточнения определений служебных частей речи и для решения задачи, поставленной В.А. Белошапковой в известном вузовском учебнике по русскому языку: «Каждый из классов незнаменательных слов (кроме связки) включает достаточно обширный круг слов, которые существенно разнятся по синтаксическим свойствам. Конкретное описание значения и синтаксического «поведения» всех незнаменательных слов еще не сделано. Для его создания требуется кропотливая работа по изучению условий употребления каждого незнаменательного слова, его соотношения с другими близкими по функции словами» [5, с. 656].
Учет в синтаксической структуре предложения не только отношений зависимости, но и членения ее на составляющие, введение в формальный аппарат лингвистики понятий валентности и сферы действия (scope) лексических единиц в их синтаксическом и семантическом понимании, представление семантической структуры предложения на семантическом метаязыке, включающем базовые понятия формальной логики (терм, предикат, пропозиция) – все это позволяло более адекватно моделировать синтаксическое поведение СС во взаимосвязи с семантикой.
То, как формальное описание СС может преобразовать грамматическую классификацию СС, показали Г.Е. Крейдлин и А.К. Поливанова в своей статье 1987 г. [29]. Если, как они предложили, представлять СС как операторы, то существенное различие между ними будет состоять в том, какое требование предъявляет оператор к сорту (в логическом смысле) своих операнд (= сфер действия – Прим. И.К.), причем релевантными являются два сорта – термы и пропозиции. При таком подходе служебные слова разделятся на два класса – те, которые требуют односортности своих операнд (например, соединительные союзы), и те, операнды которых непременно разносортны (напр., даже , только и т. п.), – и это деление – «едва ли не самое важное, определяющее всю систему служебных слов» [29, с. 107]. Отметим, что данное суждение и приведенные примеры показывают, что в качестве элементов системы СС при таком подходе должны выступать не слова, а их варианты, различающиеся по синтаксическим и семантическим свойствам. Так, только как органичитель-ная частица требует разносортности операнд, а только как противительный или таксисный союз – их односортности.
Ясно одно: если помимо собственно синтаксических и семантических учитывать семантикосинтаксические, и коммуникативно-просодический параметры СС, то мы получим гораздо более разветвленную их классификацию, подобную фунда- ментальной классификации предикатов Ю.Д. Апресяна, включавшую на момент ее публикации 15 классов [2].
Заметим, что до сих пор собственно синтаксису, то есть поверхностному синтаксису СС, уделялось существенно меньше внимания, чем их значению. Сдвиг в этом направлении намечается на третьем этапе развития исследований. Однако на втором этапе был сделан важный шаг в области синтаксической семантики СС. Мы имеем в виду прежде всего формальное описание взаимодействия синтаксиса и семантики отрицания, выражаемого отрицательными частицами не и ни в работах Е.В. Падучевой [35] и И.М. Богуславского [8], а также разработку важного для описания СС понятия “сфера действия”, рабочие возможности которого были продемонстрированы И.М. Богуславским на примере семантики частиц только и даже [9].
При всем том на втором этапе изучения СС в центре внимания оказались не столько правила взаимодействия (композиции) значения СС со значением слов, входящих в его сферу действия, а собственно значение конкретных СС, то есть тот вклад, который данное СС вносит в семантику предложения.
Формализация семантики, то есть разработка специальных формализованных языков для унифицированного представления значений лексических и грамматических единиц языка, необходимого для создания интегральных формальных моделей языка и применения их в решении прикладных задач, предполагающих автоматический семантический анализ текста, произвела кардинальное изменение в подходе к описанию значений СС. Первый опыт формального описания служебной лексики, основанного на принципах описания означаемых в Московской семантической школе (МСШ), был предпринят Г.Е. Крейдлиным в его кандидатской диссертации 1979 г. [28]. В этой работе было убедительно доказано, что установить значение СС можно лишь одновременно с семантической интерпретацией их синтаксических связей, и представлены два возможных подхода к решению этой задачи – семантический и синтаксический. На основе семантического подхода им была описана семантика союза а , частицы даже и ряда производных предлогов: включая, исключая и др., на основе синтаксического (трансформационного) – строевые соотносительные слова-классификаторы в сложных предложениях: факт и утверждение.
Впоследствии в работах Ю.Д. Апресяна, В.Ю. Апресян, А.Н. Баранова, Е.Г. Борисовой, Л.Л. Иомдина, И.М. Кобозевой, И.Б. Левонтиной, А.Н. Латышевой, Е.В. Падучевой, А.К. Поливановой, В.З. Санникова, Е.В. Урысон и др. появились формализованные описания значения разнообразных СС русского языка, основанные на тех же принципах.
Обращение к прагматике языковых единиц и выражений, к моделированию коммуникативных актов не могло не вызвать всплеска интереса к частицам, поскольку так называемые модальные частицы выражали именно прагматические аспекты смысла высказывания. Частицам было посвящено большинство исследований русской служебной лексики в 80-е гг. XX в., проблематика и методы которых нашли отражение в нашем обзоре [23]. Многие из них были выполнены в русле МСШ. Но были представлены и иные теоретические подходы. В кандидатской диссертации П.Б. Паршина [36] был успешно применен процедурный подход к описанию плана содержания выделительных частиц, французские русисты строили свои семантические описания на базе теории “Лингвистика высказывания” А. Кюльоли (см., напр., [53]), немецкие русисты начали применять к частицам аппарат “формальной семантики” (см., напр., [57]), основанной на логической теоретико-модельной семантике Р. Монтэгю (“Грамматике Монтэгю”). Естественно, что появились и описания означаемого частиц, основанные на прагматических теориях, см., напр., книгу австрийского русиста Р. Ратмайр [54].
В рассматриваемый период, характеризующийся стремлением не ограничиваться описанием и классификацией фактов языка, но переходить к их объяснению и получению значимых обобщений, рамки традиционных лексико-грамматических категорий служебных слов оказываются тесными, возникает потребность в категоризации служебной лексики по ее функциям. Так, разрабатывая теорию сложного предложения в типологической перспективе, М.И. Черемисина в монографии 1987 г. [43] вводит понятие скрепы для обозначения всех типов служебных слов, формирующих сложное предложение. Обращение лингвистов к анализу смысловой структуры тек-ста/дискурса не могло не повлечь за собой изучения языковых средств, предназначенных (помимо прочего) для экспликации этой структуры. Такими средствами оказались не только союзы, но и частицы, и вводные слова и конструкции со строевыми словами типа дело в том, что..., в этой связи и т. п. Общность текстовой функции таких слов и конструкций послужила достаточным основанием для объединения их А.Ф. Прияткиной в категорию (текстовых) скреп5 [38]. Классы скреп, функционирующих на уровне предложения и на уровне текста, пересекаются. Впоследствии в качестве обобщающего термина для слов и выражений, связующих части сложного предложения и / или части текста, широкое распространение получил термин-интернационализм коннектор. Еще более широкий семантико-функциональный класс, включающий в себя практически все служебные слова и фраземы, кроме сильноуправляемых, а также пространст- венных и временных предлогов в их прямом значении, охватывается термином дискурсивные слова (ДС). Функция ДС состоит в установлении отношений не внутри пропозиции, а “между двумя (или более) составляющими дискурса” [21, с. 8], причем под “составляющими дискурса” понимаются не только части текста, но и составляющие коммуникативной ситуации: говорящий и адресат, и таким образом в область устанавливаемых отношений вовлекаются и пропозициональные установки говорящего, и его оценки, и все прочие прагматические отношения, связанные с употреблением высказывания в процессе коммуникации. Термин получил распространение благодаря публикациям участников французско-русского проекта по описанию дискурсивных слов русского языка [21, 22].
Выход в 80-е гг. многочисленных работ по семантике СС в конце 90-х – начале 2000 гг. подвиг ряд научных коллективов к созданию специальных толковых словарей СС, в которых, в отличие от практики общих толковых словарей предыдущего этапа, когда давалось лишь самое общее указание на функцию СС, появились их толкования, в той или иной форме объясняющие условия их употребления. Это «Словарь структурных слов русского языка» [34], «Словарь русских частиц» [48], «Словарь служебных слов русского языка» [41]. Особое место занимает словарь ДС [21] и дополняющий его сборник [22], в котором на основе разработанной Д. Пайаром техники контекстносемантического анализа все употребления полисемичных ДС сведены к единому семантическому инварианту, который реализуется в контексте в виде вариантов, образующих систему “граней” и “деформаций” инварианта.
Также на втором этапе произошло осознание необходимости учета просодического компонента формы СС для адекватного описания структуры его полисемии. Впервые это было продемонстрировано в работе Ю.Д. Апресяна [1] на примере СС еще и вообще. В работах И.М. Кобозевой и Л.М. Захарова [24, 25] была выдвинута идея создания звучащего словаря ДС и на примере ДС а введено понятие просодико-семантического варианта слова, причем предлагалось учитывать и смыслоразличительные жесты, сопровождающие артикуляцию СС.
Хотя синхронная семантическая проблематика на втором этапе изучения СС явно преобладала, параллельно продолжались и диахронические исследования СС, см., напр, монографию Е.Т. Черкасовой [44] о путях грамматикализации русских союзов неместоименного происхождения.
Третий этап
Третий этап в исследовании СС русского языка охватывает приблизительно два последних десятилетия. На этом этапе изменилась не столько проблематика, сколько материал и методы иссле- дования. И связано это было с двумя обстоятельствами. Первое – это начало всестороннего изучения устного дискурса, которое стало возможным благодаря появлению технических средств, обеспечивающих автоматический мультиканальный анализ речевых действий с учетом многообразных паралингвистических составляющих и визуализирующих результаты этого анализа для последующей их лингвистической интерпретации.
В СПбГУ был создан и ведется устный корпус “Один речевой день” (см. [7]), позволяющий исследовать русский язык повседневного общения с разными целями. В процессе анализа данных корпуса была выделена категория слов и фразем, которые Н.В. Бегларян предложила называть праг-матемами . Это единицы повседневной речи, функционирующие на коммуникативно-прагматическом уровне, выражающие различные реакции говорящего на окружающую действительность и имеющие форму самостоятельных высказываний” [6, с. 10] 6 . Посмотрев на состав этой категории, мы обнаружим в ней достаточно много единиц, которые являются служебными словами, но употребленными не на пропозициональном, а на коммуникативно-прагматическом или текстовом уровне. Напр., СС вот будет квалифицировано как прагма-тема в таком примере из корпуса ОРД: так он (э-э) / уже к... (э-э) премьеру *Н ? #ну вот // и я спрашиваю / +.
Независимым образом при изучении семантики сложных предложений был установлен тот факт, что СС, имеющие союзную функцию, могут употребляться не только на пропозициональном уровне, но и на коммуникативно-прагматическом, когда в сферу действия союзного средства попадает обычно имплицитный иллокутивный компонент смысла высказывания: ‘я говорю с такой-то целью, предполагая наличие в ситуации общения таких-то условий, что P’, где P – пропозициональный компонент, выражаемый эксплицитно. Такое употребление союзов было рассмотрено В.З. Санниковым в [39] и названо иллокутивным. Оно более характерно для бытового диалога, но встречается и в письменных речевых жанрах.
Второе обстоятельство, кардинально повлиявшее на интенсификацию лингвистических исследований вообще и исследования СС в частности, – это получение легкого доступа к большим языковым данным сети Интернет, а в особенности создание Национального корпуса русского языка (НКРЯ), поначалу включавшего только образцы письменной речи на современном русском языке, но постепенно расширяющегося в диахроническом направлении (Исторический корпус), а благодаря энтузиазму Е.А. Гришиной обретшего и пополняемый Мультимедийный корпус.
Обеспечение быстрого и удобного доступа к языковым данным привело к выдвижению масштабных задач и осуществлению больших коллективных проектов в области изучения служебной лексики.
Перечисление таких проектов следует начать с многолетнего проекта «Служебные слова в лексикографическом аспекте», реализуемого учеными Дальневосточной синтаксической школы в рамках Лаборатории служебного слова (ЛСС, URL . Результаты работы над проектом представлены на сайте ЛСС в виде оцифрованных книг и диссертаций. Последний по времени результат – коллективная монографии под ред. Е.С. Шереметьевой, Е.А. Стародумовой и П.М. Тюрина [47], в которой дано описание ряда семантически разноплановых частиц, производных предлогов, союзов и текстовых скреп в виде поли-параметрических словарных статей, отражающих семантическую, конструктивную, коммуникативную и прагматическую специфику каждой единицы.
Далее следует назвать многолетний международный проект «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис», задуманный М.В. Всеволодовой и до 2020 г. осуществлявшийся под ее руководством. Цель проекта – собрать все реально используемые в языке “предложные единицы” – собственно предлоги и функционально близкие к ним простые (напр., длиной, южнее) и составные единицы (напр., на глубине , во искупление ) и описать их “со всех ракурсов”, а именно по 26 грамматическим и семантическим параметрам. Первые результаты русской части проекта были опубликованы в [15]. Разумеется, получить реестр единиц и разметить его по выбранным параметрам – это не самоцель. В ходе создания подобных языковых ресурсов неизбежно приходится решать теоретические проблемы, которые не встают перед исследователем, когда он описывает один предлог или синонимическую группу. С другой стороны, наличие большого размеченного по релевантным параметрам языкового материала позволяет выявлять не замеченные ранее закономерности и корреляции.
С 2015 г. в Институте управления РАН под руководством О.Ю. Иньковой был начат проект по созданию надкорпусной базы данных (НБД) коннекторов русского языка и ряда европейских языков, предназначенной для проведения исследований в области контрастивной лингвистики и пере-водоведения, см. о ней в [17]. Источником данных для НБД служит Параллельный корпус НКРЯ. В ходе работы над НБД одной из основных проблем стала формальная вариативность коннекторов в широких пределах при тождестве выражаемого ими логико-семантического отношения, ср., не только P, но / а (ёще (и) Q; (как) только P, (так/то) Q; (едва / лишь / чуть) только P, как / и Q и т. п. О.Ю. Инькова предложила решение этой проблемы, введя понятие “речевой реализации коннектора”, которая рассматривается не как отдельная единица языковой системы, а как ее репрезентант, появляющееся в речи в результате использования языковых единиц при порождении высказывания [18]. Соглашаясь с этой точкой зрения, И.М. Кобозева в [23] на примере союзов контактного предшествования продемонстрировала, каким бы мог быть когнитивно-семантический (и одновременно прагматический) подход к описанию языкового поведения коннекторов. Эти и другие новые выводы, полученные в ходе реализации проекта, были отражены в трех коллективных монографиях [19, 20, 26].
В Институте языкознания РАН с 2022 г. под руководством Н.В. Сердобольской ведется проект по созданию многокомпонентной базы данных о русских коннекторах “Рускон”. В отличие от НБД, рассмотренной выше, БД “Рускон” включает в себя модуль, содержащий информацию о частеречной принадлежности и семантическом разряде всех единиц, включенных в обширный список союзных средств в грамматике [46] (кроме выявленных в этом списке свободных словосочетаний), которая была почерпнута из той же грамматики и пяти словарей [15, 16, 30, 34, 48]. В том же модуле содержится собственная разметка коннекторов по семантическим зонам, установленным участниками проекта в результате обобщения представленных в литературе семантических описаний. В БД имеется также полипараметрический синтаксический модуль и разрабатывается диахронический модуль. Структура БД и проблемы, которые решались при ее заполнении, описаны в статье [27].
На третьем этапе продолжается совершенствование семантических описаний конкретных СС, причем предлагаются новые способы объяснения языкового поведения СС и ставятся новые теоретические вопросы. Так, в книге Е.В. Урысон [42] для объяснения употребления сочинительных союзов привлекается психологическая теория установки Д.Н. Узнадзе и ставится под сомнение статус семантического примитива для союза если . В работах Е.Г. Борисовой СС рассматриваются и описываются с точки зрения их воздействия на сознание адресата, см., напр., [10]. Продолжаются и диахронические исследования СС, теперь уже с использованием данных Исторического корпуса НКРЯ, см., напр. [55].
Заключение
Мы попытались в самых основных чертах представить путь развития представлений о служебных словах в отечественной лингвистике, отметить перемещения фокуса внимания на те или иные их свойства и функции в зависимости от смены научных парадигм и развития технических средств для поиска и анализа языковых данных.
Описывая текущее состояние исследований СС, мы постарались отметить поставленные, но не нашедшие окончательного решения вопросы, которые предстоит решать в будущем.
Надеемся, что в других статьях данного выпуска журнала читатель найдет и описания новых фактов, и пересмотры предшествующих описаний известных фактов, получит новые объяснения наблюдаемых данных, узнает о новых идеях в исследовании СС и проблемах, ждущих своего решения.