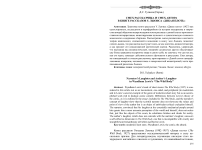Смех рассказчика и смех автора в книге рассказов У. Льюиса "Дикая плоть"
Автор: Туляков Дмитрий Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежная литература
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Трактовке книги рассказов У. Льюиса «Дикая плоть» (1927) как одностороннего, нескладного и периферийного (в истории модернизма и творчестве автора) образчика жанра модернистского рассказа в данной статье противопоставлена интерпретация, акцентирующая цельность и диалогическую сложность комического содержания сборника. Рассмотрение смеха рассказчика в контексте теории комического, изложенной в вошедших в книгу эссе Льюиса, позволяет сделать вывод, что рассказчик выступает здесь не как носитель ценностей автора, и как предмет его неоднозначной критической оценки. Рассказчик, уверенный, что насмешка над механистической, «вещной» сущностью других обеспечивает ему более правдивое восприятие мира и самого себя, не замечает, что сам так же, как его герои, замещает действительность фетишами и ритуалами. Смех автора, не совпадающий со смехом рассказчика, приоткрывает в «Дикой плоти» автореф-лексивное измерение, несовместимое с поверхностной мизантропией, часто приписываемой рассказам Льюиса.
Модернистский рассказ, уиндем льюис, комизм, абсурд
Короткий адрес: https://sciup.org/14914686
IDR: 14914686
Текст научной статьи Смех рассказчика и смех автора в книге рассказов У. Льюиса "Дикая плоть"
Книга рассказов Уиндема Льюиса (1982-1957) «Дикая плоть» (The Wild Body, 1927) представляет исследовательский интерес в силу нескольких причин. Для литературоведов, изучающих наследие этого незаурядного английского писателя и художника, это важнейший источник, позволяющий проследить за становлением самобытной поэтики Льюиса. Большинство рассказов, вошедших в книгу, являются значительно переработанными версиями текстов, впервые вышедших почти 20 годами ранее в разных «маленьких журналах». В предисловии к книге 1927 г. Льюис отводит ранним рассказам - «поспешным заметкам» - второстепенную роль, а повторное обращение к ним мотивирует тем, что они заслуживают «руки лучшего художника» [Lewis 1982, xiii]. Однако в автобиографии 1949 г. писатель, напротив, придает большее значение своим первым рассказам и отмечает, что весь его творческий путь стал развитием того, начало чему было положено в этих первых публикациях [Lewis 1984, 121]. Возможно, поэтому критики часто отдают предпочтение ранним рассказам Льюиса, в которых тонкий и зачастую сочувственный комизм еще не уступил место жесткой (и жестокой) сатире [Duncan 1982, 67-85; Michel 2004, 15-23; Sherry 1997, 121-138].
С точки зрения историков литературы рассказы из «Дикой плоти» сопоставимы с произведениями этого жанра таких авторов, как В. Вулф, Дж. Джойс и К. Мэнсфилд [Drewery 2016, 135-151]. В то же время рассказам Льюиса чаще всего отводится маргинальное место в английском модернизме. Согласно одной точке зрения, они иллюстрируют зацикленный формализм - лишенную диалога «негативную эстетику отрицания, систематический диагноз без лечения», и поэтому они менее удачны в художественном отношении, чем работы его современников [Head 1992, 139, 161]. Согласно другой точке зрения, различия между рассказами Льюиса и других английских модернистов вызваны диаметральной противоположностью выраженного в них взгляда на жизнь и имеют типологический характер [Lerena 2007, 40, 53]. Так или иначе, «Дикая плоть» чаще всего оценивается в отрицательных категориях и остается на обочине модернизма либо как нечто слишком экстравагантное даже по его меркам, либо как неубедительный эксперимент, уступающий и первым рассказам автора, и рассказам других модернистов.
Представленная в данной статье интерпретация призвана продемонстрировать, что «Дикая плоть» не является лишь грубой и неудачной в художественном отношении вариацией на тему ранних рассказов автора. Особая целостность сборника обусловлена двумя нововведениями: появлением нового сквозного персонажа, рассказчика Кер-Орра, и включением в книгу эссе, в которых излагается авторская теория смеха и комического и которые некоторые критики не без оснований считают «самыми загадочными и противоречивыми текстами, написанными Льюисом» [North 2009, 119]. Сопоставление концепции комического у Льюиса с пониманием смеха, изложенным Кер-Орром, позволяет увидеть рассказчика как предмет особого критического отношения автора. В этом свете рассказы Кер-Орра предстают как искусственная абсолютизация комической программы Льюиса, а в «Дикой плоти» обнаруживается рефлексивное содержание, часто остающееся без внимания критиков.
Книга «Дикая плоть» включает авторское предисловие, девять расска- зов и два эссе. Два последних рассказа вынесены в приложение со своим шмуцтитулом и, строго говоря, к «Дикой плоти» не относятся. Первые же семь рассказов объединены местом действия и «составляют серию, принадлежащую воображаемому рассказчику» - англичанину Кер-Орру путешествующему по Бретани и Испании. Предисловие и эссе Льюиса относятся к этим семи рассказам и призваны «служить комментарием к системе чувства, разработанной в этих историях» [Lewis 1982, xiii]. Первые версии пяти из рассказов серии Кер-Орра были впервые опубликованы в 1909-1911 гг; эссе Льюиса «Низшие религии» повторяет с некоторыми изменениями одноименную журнальную статью 1917 г, а «Значение дикой плоти», по-видимому было написано специально для сборника в 1927 г.
В жанровом отношении рассказы 1909-1911 гг. близки путевым заметкам: в них представлены скупые на события наблюдения-зарисовки рассказчика о Бретани и ее обитателях, а также некоторые социологические обобщения. В ранних рассказах рассказчик безымянен и почти неотличим от биографического автора - Льюиса, посетившего Бретань в 1907-1908 гг. В «Дикой плоти» путевые заметки претерпевают «фикционализа-цию»: в них появляются развернутые диалоги, событийная составляющая становится более выраженной [Lafourcade 1980, 75], а также усиливается присутствие в повествовании и участие в действии эксцентричного рассказчика Кер-Орра, мало напоминающего своего предшественника.
Появление нового рассказчика с иным отношением к тем, о ком он повествует, обусловило кардинальную трансформацию рассказов, которую некоторые критики связывают с переходом Льюиса от комизма к сатире [Michel 2004, 15-23; Munton 1982, 141-157; Sherry 1997, 121-138]. В рассказах 1909-1911 гг. персонажи предстают как курьезные, не похожие на наблюдающего за ними путешественника из Лондона обитатели французской провинции, однако рассказчик зачастую относится к ним с соучастием, осторожностью (он допускает, что его интерпретация героев искажает их сущность [Duncan 1982, 82-83]), а иногда и симпатией [Michel 2004, 17]. С появлением Кер-Орра в 1927 г. в рассказах появляется презрительная и злая насмешка. Например, глаза пьющей владелицы пансиона из рассказа «Броткотнац», которую избивает муж, Кер-Орр описывает как «черные и влажные, с вороватой сосредоточенностью крысы. Они опасливо вращаются в своей обрюзгшей оболочке» [Lewis 1982, 133]. Аналогичное описание в рассказе версии 1911 г, где о героине говорится, что иногда ее скрытность «становится такой напряженной, что она со странным извращением ведет себя так, будто бутылка ее слушает» [Lewis 1982, 291], нельзя назвать сочувственным, но презрительная оценка в нем отсутствует. В рассказах 1927 г. подобная оценка, напротив, выражена напрямую, в том числе такими прилагательными, как «неприятный», «уродливый», «убогий», «мерзкий», «презренный» и др. [Duncan 1982, 83]. Появление враждебного рассказчика традиционно интерпретируется критиками как неудачное решение Льюиса, перечеркнувшее полифонию и комическую сложность ранних рассказов. Такой взгляд на книгу 1927 г. утвердился после того, как X. Кеннер в одной из первых монографий о Льюисе охарактеризовал «Дикую плоть» как «паралитическую художественную катастрофу», положившую начало провальному десятилетию в карьере автора [Kenner 1954, 88, 93].
Смысл появления нового рассказчика может быть прояснен благодаря обращению к авторскому тексту-комментарию, сопровождающему рассказы в издании 1927 г. Эссе, включенные в книгу, посвящены особенностям персонажей и их характерологии, а именно пустоте и неосознанной механистичности, которая делает их «Дикой Плотью». В первом эссе автор называет вошедшие в сборник рассказы «исследованиями первобытного поклонения и влечения», а их героев - «куклами», «скрипучими челове-ко-машинами», «замысловато движущимися болванками», «маленькими монументами логики» и «гротескными фетишами» [Lewis 1982, 149, 151]. Они комичны в силу своей ограниченности, пустоты и ущербности: лишенные жизни, они пребывают в мире заданных ролей, привычек и автоматизма, а их сущность может быть охарактеризована как «сбой выхода огромной энергии, имитация и стандартизация “я”» [Lewis 1982, 150]. Во втором эссе Льюис поясняет, что персонажи смешны не тем, что опустились до уровня механизмов, забывших (или не знающих), что они люди, а тем, что они не отдают себе отчета в абсурдной телесности и механистичности, свойственной всем людям, и своим поведением тщетно имитируют абстракцию человека.
Вопрос, от которого зависит интерпретация «Дикой плоти», можно сформулировать следующим образом: относится ли сказанное автором в эссе о персонажах и к самому рассказчику Кер-Орру? Если нет, это будет означать, что автор, исключая рассказчика из числа «людей-болванок», в значительной мере идентифицируется с ним и использует его как средство выражения собственного презрительно-агрессивного отношения к людям. Если да, то предметом авторской оценки будет в первую очередь сам рассказчик и его отношение к персонажам. В первом случае можно было бы говорить о том, что к 1927 г. в авторском отношении к человеку произошла негативная ценностная переориентация; во втором случае рассказы Льюиса могут быть прочитаны не только как жесткий вердикт «вещному» человечеству, но и как критическая рефлексия об определенном типе ми-ровидения и о повествовательной креативности, носителем которой в рассказах выступает Кер-Орр.
Кер-Орр отчасти сам отвечает на этот вопрос в первом рассказе «Солдат юмора» (первая версия которого вышла позднее, чем ранние бретонские рассказы Льюиса, в 1917 г), когда описывает себя как «машину смеха»: «Я огромный белый клоун. <...> Мое тело большое, белое и дикое. Е1о вся моя свирепость превращена в смех. Оно по-прежнему выглядит как вестготская боевая машина, но в действительности это машина смеха. <...> Везде, где прежде я бы схватил кого-то за горло, я теперь реву хохотом» [Lewis 1982, 17]. Как и другие персонажи, Кер-Орр - «дикая плоть» и «варвар», однако, в отличие от остальных, он отдает себе отчет в этой ограниченности. Обостренная двойственность рассказчика (он называет себя «раздвоенной, странно пахнущей, белокожей тушей, с двумя вращающимися сверкающими шариками, через которые она смотрит прицелами, полными насмешки и безумия» [Lewis 1982, 18]) порождает в нем агрессивный и самодовольный смех над всем и всеми.
Авторское объяснение природы и значения смеха близко, но не тождественно пониманию смеха Кер-Орра. Рассказчик утверждает, что смеется потому, что «существует на более примитивном уровне, чем большинство людей» [Lewis 1982, 18], а причина его хохота - его собственная «дикая плоть». Так же Льюис, перечисляя свойства смеха, начинает со следующих двух: «Смех - это песнь триумфа Дикой Плоти» и «Смех - это развязка трагедии видеть, слышать и нюхать осознанно» [Lewis 1982, 151]. Таким образом, и для автора, и для рассказчика смех берет начало в самосознании, в одновременном тождестве и не-тождестве человеческого тела - «дикой плоти» - самому себе.
Тем не менее, в отличие от Кер-Орра у Льюиса смех лишен враждебности и уничижительности - это не оружие, а инструмент познания, способный мимолетно приоткрыть человеку всю «тотальность абсурда» [Lewis 1982, 157] его существования. Несмотря на то, что смешон каждый, человеку крайне сложно «увидеть себя самого в этом жестком и изысканном свете. Нет никого, кто выжил бы, пронаблюдав за собой таким образом больше, чем мгновение <.. > Мы не созданы быть абсолютными наблюдателями» [Lewis 1982, 158]. Кер-Орр наследует Льюису в понимании того, что комизм универсален, а его основа лежит в «наблюдении за вещью, которая ведет себя как человек» [Lewis 1982, 158]. В то же время рассказчик пытается совершить то, что, по мнению Льюиса, сделать невозможно: стать «абсолютным наблюдателем» и видеть других только как механизмы, «племя» или вид, подобный насекомым [Lewis 1982, 80], утвердив таким образом превосходство над ними. Для Льюиса, напротив, человек, осознающий абсурд и «вещность» себя и окружающих, так же комичен, как и те, кто этого не замечает. В «Значении Дикой Плоти» приводится в пример человек, едва успевший заскочить в вагон метро, чьи «бег, ловкая, осмотрительная, но неуклюжая посадка, в сочетании с хладнокровием его взгляда, произвели смешное впечатление <...> [которое] было обусловлено его бесстрастностью» [Lewis 1982, 159]. Кер-Орр, который видит в себе, если воспользоваться его сравнением, и насекомое и энтомолога, доводит комизм этого рода до предела.
С этой точки зрения неоправданная враждебность и агрессия рассказчика по отношению к предметам его повествования иллюстрируют издержки, с которыми связана абсолютизация комического отношения к действительности. Несмотря на то, что Кер-Орр уверяет читателей, что относится к себе с такой же «объективной» неприязнью, как и ко всем остальным, во всех рассказах сборника слышится его самодовольство, презрительность и чувство собственного превосходства. В конечном счете гипертрофированно комическое отношение к действительности приводит рассказчика не к объективности, а к искаженному и неполному восприятию себя, а избранная им роль «солдата юмора» и беспристрастного исследователя скрывает болезненную правду, которую рассказчик не видит или, по крайней мере, никогда не проговаривает.
На примере рассказа «Смерть Анку» П. Эдвардс продемонстрировал, что «реальность, которой Кер-Орр избегает, превращая все в бурлескные образы, это, в конченом счете, смерть и чувство вины» [Edwards 1997, 31]. Кер-Орр рассказывает, как случайно встретил слепого нищего Лудо, напомнившего ему предзнаменование смерти Анку из туристического путеводителя. После этого Кер-Орр навещает Лудо и, упомянув Анку, сам становится для него предзнаменованием смерти; впоследствии нищий умирает. Суеверие, от которого зависит жизнь Лудо, воспринимается рассказчиком как пустой фетиш и одномерная система знаков (Анку = смерть), над которой можно только смеяться. В способности не подчиняться знаковым системам, слепое соответствие которым определяет бытие других персонажей, Кер-Орр видит свое главное отличие от них: вместо этого он слагает истории и подчиняет других своей комической логике, отодвигая реальность смерти, которая в действительности касается его не меньше, чем Лудо.
На самом деле «одномерность» и одержимость тех, над кем насмехается рассказчик, свойственна ему гораздо больше, чем он думает. Просто если герои Кер-Орра ритуализируют свой быт и находят в нем фетиши, наполняющие содержанием их существование, то для рассказчика такими фетишами становятся те, о ком он рассказывает. Соответственно истории Кер-Орра представляют собой изощренный ритуал, попытку свести суть реальности к комическому абсурду.
Например, Кер-Орр, не осознавая этого, близок главному герою рассказа «Предводитель бродячей труппы и его жена». Оба они - «ведущие представления» (showman), только рассказчика так называет автор [Lewis 1982, xiii, 149], а предводителя труппы - рассказчик [Lewis 1982, 92]. Для Кер-Орра интерес представлений состоит в ненависти, которую циркачи и их публика испытывают друг к другу. Труппа как будто прикована к своим зрителям, которые, в свою очередь, не могут не смотреть на манерные «безумные содрогания негодующего человека и его грязной, бездыханной жены, чье уродливое горе должно было скорбно демонстрироваться ежедневно» [Lewis 1982, 91]. В этом описании цирковое зрелище - абсурдный замкнутый круг, подчиняющий себе циркачей и зрителей.
В то же время Кер-Орр не видит, что сам он занят почти тем же, что и предводитель труппы. Как и ведущий циркового представления, он прикован к своим читателям, которых он, очевидно, презирает (хотя бы потому, что презирает он без исключения всех). Его единственное существенное отличие от предводителя трупы в том, что последний демонстрирует нарочитые страдания ради заработка, а Кер-Орр, со своим гипертрофированно комическим видением, как будто в принципе не способен страдать и получает от своих путешествий-наблюдений только удовольствие. Однако важ- но помнить, что мы узнаем о манерно преувеличенных горестях цирковой труппы от рассказчика, который, как он сам признается, просто «не может не превращать все, что [он] видит в бурлескные образы» [Lewis 1982, 17]. Вероятно, ведущий представления не изображает, а на самом деле испытывает боль, и его доля достойна жалости. Вероятно также, что между ведущим и зрителем нет ненависти, что Кер-Орр лишь «впитывает» ее в происходящее в силу своей привычки изменять действительность воображением. В таком случае и страдания и ненависть предводителя труппы будут проекцией ненависти Кер-Орра и его страданий, тщательно вытесненных из всех историй, которые он рассказывает. Тогда смех рассказчика будет не оружием и инструментом познания, а средством защиты и ухода от действительности.
Многие персонажи других рассказов сборника также чем-то похожи на Кер-Орра. Бестр, главный герой одноименного рассказа, постоянно провоцирует и «атакует» своих постояльцев или соседей, пользуясь в качестве оружия мимикой и пугающим, внушающим отвращение взглядом. Кер-Орр признает, что многому научился у Бестра [Lewis 1982, 84], имея в виду его агрессивную тактику, вынуждающую «жертву» продемонстрировать свою «вещную», комичную сущность. Однако Бестру неизвестен комический потенциал его действий. Он выискивает или придумывает несуществующие поводы, из-за которых начинает свои «магнетические атаки» или «кампании», у которых, однако, нет какой-либо комической цели. Для Бестра «немые битвы» - привычка и образ жизни, а сам он смешон и напоминает рассказчику механическую обезьянку, рептилию и копытное одновременно [Lewis 1982, 78]. Яркими гротескными описаниями Кер-Орр подчеркивает свои отличия от Бестра, а именно интеллект и креативность, чуждые механической агрессии бретонца. И все же, как и в случае с предводителем труппы, интерпретация рассказчиком поведения своего героя может быть проективной. То, чего «солдат юмора» Кер-Орр не видит или не может сказать о себе, он приписывает Бестру: «Он смотрит на реальность глазами профессионала, так сказать: профессионального лжеца» [Lewis 1982, 87]. «Бурлескные образы» Кер-Орра - такая же ложь, только облаченная в форму рассказов; это комические фикции, позволяющие рассказчику поддерживать иллюзию самосознания и контроля над действительностью.
Данное прочтение подтверждается тем, что в эссе Льюиса определение «Дикая Плоть» в первую очередь относится не к часто вынесенным в заглавия героям рассказов, а к рассказчику, чья фигура воплощает собой «кукольную» сущность, общую для него и для других персонажей: «Чтобы представить моих кукол и Дикую Плоть, их родовую куклу, я должен спроецировать причудливую бродячую фигуру ведущего представления, которому их нелепые выходки и серьезные ужимки доставляют странное наслаждение» [Lewis 1982, 149]. С точки зрения рассказчика, его сродство с «Дикой Плотью» выборочно; Льюис, напротив, настаивает, что Кер-Орр лишь незначительно отличается от других персонажей. «Дикая Плоть»
также недвусмысленно указывает на рассказчика, а не других персонажей, в следующем авторском определении: «это маленькое, примитивное, в буквальном смысле допотопное судно, на котором мы отправляемся в наши приключения» [Lewis 1982, 152]. По сюжету книги автор и читатель перевоплощаются в рассказчика, однако не только для того, чтобы понять его «вещный» взгляд на жизнь, но и затем, чтобы прочувствовать противоречивость и скомпрометированность его позиции.
Несовпадение смеха автора и смеха рассказчика не только задает в «Дикой плоти» глубину, которая часто остается незамеченной, но и вносит в рассказы Льюиса элемент критической рефлексии о природе творчества. Поскольку повествовательная креативность рассказчика скептически оценивается автором как психологически мотивированное искусство замещения, доступ автора к реальности также ставится под сомнение, а повествовательная организация сборника заставляет задуматься, замещением чего для автора может быть развернутая теория обесчеловеченного комизма и фигура враждебного рассказчика. Простым (и, возможно, слишком прямолинейным) ответом мог бы стать опыт участия автора в Первой мировой войне, после которой Льюис, как он сам утверждал, утратил способность улыбаться [Edwards 2000,263]. Однако какой бы ни была конкретная мотивация биографического автора, очевидно, что, несмотря на радикальность мировидения рассказчика, «Дикая плоть» по своему устройству является богатым смыслами диалогическим текстом, далеким от односторонней мизантропии и нигилизма, часто приписываемых Льюису.
Список литературы Смех рассказчика и смех автора в книге рассказов У. Льюиса "Дикая плоть"
- Drewery C. The Modernist Short Story: Fractured Perspectives//The Cambridge History of the English Short Story. Cambridge, 2016. P. 135-151.
- Duncan I. Towards a Modernist Poetic: Wyndham Lewis’s Early Fiction//Wyn-dham Lewis: Letteratura/Pittura. Palermo, 1982. P. 67-85.
- Edwards P. Wyndham Lewis’s Narrative of Origins: "The Death of the Ankou"//The Modern Language Review. 1997. Vol. 92. № 1. P. 22-35.
- Edwards P. Wyndham Lewis: Painter and Writer. New Haven, 2000.
- Head D. The Modernist Short Story: A Study in Theory and Practice. New York, 1992.
- Kenner H. Wyndham Lewis. Norfolk, 1954.
- Lafourcade B. The Taming of the Wild Body//Wyndham Lewis: A Revaluation. London, 1980. P. 68-84.
- Lerena M.J.H. Are Lewis’s Short Stories Pathological?//Wyndham Lewis the Radical: Essays on Literature and Modernity. Bern, 2007. P. 39-68.
- Lewis W. Rude Assignment: An Intellectual Autobiography. Santa Barbara, 1984.
- Lewis W. The Complete Wild Body. Santa Barbara, 1982.
- Michel W. ‘Inferior Religions,’ The Wild Bod(ies), and the Early Stories//Wyndham Lewis Annual. 2004. P. 15-23.
- Munton A. Wyndham Lewis: The Transformations of Carnival//Wyndham Lewis: Letteratura/Pittura. Palermo, 1982. P. 141-157.
- North M. Machine-Age Comedy. New York, 2009.
- Sherry V. Wyndham Lewis, the Body Politic, and Comedy//Modernism/modernity. 1997. Vol. 4. No. 2. P. 121-138.