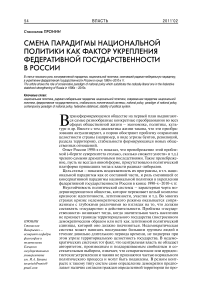Смена парадигмы национальной политики как фактор укрепления федеративной государственности в России
Автор: Пронин Станислав Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль консервативной парадигмы национальной политики, сменившей радикал-либеральную парадигму, в укреплении федеративной государственности России в конце 1990-х-2010-х гг.
Национальная политика, радикал-либеральная парадигма национальной политики, современная парадигма национальной политики, федеративная государственность, стабильность политической системы
Короткий адрес: https://sciup.org/170165736
IDR: 170165736
Текст научной статьи Смена парадигмы национальной политики как фактор укрепления федеративной государственности в России
В трансформирующемся обществе на первый план выдвигаются самые разнообразные конкретные преобразования во всех сферах общественной жизни – экономике, политике, культуре и др. Вместе с тем диалектика жизни такова, что эти преобразования актуализируют, а порою обостряют проблему сохранения целостности страны (например, в виде угрозы бунтов, революций, раздела территории), стабильности формирующихся новых общественных отношений.
Опыт России 1990-х гг. показал, что пренебрежение этой проблемой («берите суверенитета столько, сколько сможете унести» и т.д.) чревато самыми драматичными последствиями. Такое пренебрежение, пусть не всегда в явной форме, присутствовало в политической платформе пришедших тогда к власти радикал-либералов.
Цель статьи – показать неадекватность их программы, в т.ч. национальной парадигмы как ее составной части, и роль сменившей ее консервативной парадигмы национальной политики в укреплении федеративной государственности России в конце 1990-х–2010-х гг.
ПРОНИН Станислав
Неустойчивость политической системы – характерная черта модернизирующегося общества, которое переживает целый комплекс кризисов: идентичности, легитимности, участия и т.д. Во многих странах кризис недемократического режима оказывается сопряженным с глубокими различиями во взглядах на то, что должно составлять «государство» в действительности. Проблема «государственности» возникает тогда, когда значительная часть населения не признает границы территориального государства (построенного демократическим образом или нет) как легитимной политической единицы, которой оно должно подчиняться. Недемократическая система может навязать послушание большим группам людей в течение довольно длительного периода времени, не подвергая при этом угрозе территориальную целостность государства. В недемократических системах тот факт, что центральная власть не обладает авторитетом, производным и поддерживаемым свободным и состязательным выбором, означает, что сепаратистские или ирредентистские устремления и чаяния не признаются частью нормального политического процесса и могут быть подавлены. В резком контрасте к такому типу систем само определение демократии предполагает наличие согласия граждан определенной территории по про- цедурам создания правительства, которое могло бы предъявлять легитимные требования (притязания) на послушание граждан. И если значительная группа людей не рассматривает такие притязания государства на их послушание как легитимные по причине того, что эта группа людей не хочет быть частью такой политической единицы, каким бы путем она ни была создана, это представляет собой серьезную проблему на этапе перехода к демократии, которая становится еще более серьезной для консолидации демократии1.
Более образно аналогичную мысль выразил Дж. Ротшильд: легитимность государства сильно зависит от восприятия населением политической системы как отражающей его этническую и культурную идентичность. В ситуации крайнего выбора большинство людей предпочтут плохое правление своих собратьев по этносу, чем хорошее правление чужаков. Правление этнических чужаков воспринимается даже хуже, чем угнетение, – оно воспринимается как деградация нации.
В России 1990-х гг. проблема этнополитической легитимности проявилась на двух уровнях: во-первых, в институциональном плане – как проблема федерализации, реформирования федеративного устройства страны и последующей легитимации нового федеративного порядка, а во-вторых, в плане выработки адекватного баланса между этническими и гражданскими ценностями.
Кризис участия проявляется в преобладании протестных форм, неадекватной организации (например, наличии нескольких сот «партий», чрезмерной активности групп, опасности вторжения маргиналов – носителей традиционных ценностей, тормозящих реформы и т.д.). Слабое развитие системы социального представительства затрудняет координацию действий верхов и населения, обеспечение соотнесения реальной силы движений и их возможностей участия.
Кризис регулирования конфликтов является естественным следствием обострения борьбы за господство тех или иных ценностей и претензий на статус, власть и ресурсы восходящих социальных и политических сил. Поэтому переходный период обычно характеризуется слабой управ- ляемостью, снижением эффективности социального регулирования, постепенным возникновением стихийных, неинститу-ционализируемых форм и альтернативных структур. Слом тоталитарных структур дает первоначальный импульс «негативной свободе». Поскольку модернизация ломает баланс интересов различных групп, то их соперничество за превосходство в обладании политической властью резко обостряется.
Когда монополия политической элиты на социально-экономические санкции в обществе подрывается развитием экономики рыночного типа, это заставляет политическую власть ослаблять свое господство и осуществлять изменение социального порядка в направлении от централизованного к квазиплюралистичес-кому с репрессивным насилием. В итоге элита сталкивается с неэффективностью насилия в управлении модернизирующимся обществом, в котором инициатива и поведение граждан уже не нуждается в силовом манипулировании. Это вынуждает элиту искать половинчатые пути либерализации, которые, в свою очередь, лишь усиливают линии конфликтного напряжения.
Кризис регулирования конфликтов вытекает и из несоизмеримости масштабов экономических и политических реформ, что приводит к разрыву между экономическими изменениями и политической институционализацией, оформляющей условия доступа новых экономических элит к государственной власти. Кроме того, растет неудовлетворенность, вызываемая несоответствием между ожидаемыми благами и реальными последствиями правительственного курса.
В условиях экономического дефицита и растущих претензий к правительству политическим лидерам трудно добиться процедурного консенсуса. В этих условиях оппозиция может убедить население, что в его бедах виновато правительство, что заставляет последнее, по сути, искусственно менять политические установки. В этих условиях апробированные в стабильных демократических обществах политические механизмы разрешения конфликтов могут не давать нужного эффекта. Так, голосование, если политическая культура расколота, может стать источником новых конфликтов, выборы могут усилить поляризацию противоборствующих полити- ческих сил, а их итоги будут оспариваться проигравшими партиями.
Развитие рыночных отношений приводит к неравенству в доходах, а авторитарный режим укрепляет тенденцию к элитизму. Распространяющееся в результате чувство несправедливости тоже ведет к подрыву политической стабильности, причем в степени, превышающей дестабилизирующий эффект низкого уровня жизни. Сильно дестабилизируют ситуацию безработица и инфляция.
Наряду с общими причинами дестабилизации политической системы в модернизирующемся обществе, в России действует целый ряд дополнительных факторов, усложняющих ситуацию. СССР дальше и последовательнее других социалистических стран прошел путь укоренения системы, стремился быть образцом, а потому и демонтаж системы был самым сложным и, по сути, обернулся неконтролируемым развалом. В СССР принципы тотальности пронизывали все сферы общественной жизни, что затрудняло поэтапный демонтаж системы. Система в своей основе казалась сверхстабильной, что не побуждало элиту к серьезной модернизации, а в лучшем случае – к «перестройке» социализма. Имела место особо глубокая и массовая укорененность коммунистической идеологии, сверхмонополизированная экономика, господство военно-промышленного комплекса. Криминализация, будучи связана с переделом власти и государственной собственности, проводимым «сверху», в значительной степени приобрела полугосударственный характер (коррупция). Не удалось синхронизировать процесс разрушения старого и построения нового общества: крушение старого по темпам намного опережало строительство нового.
Наряду с описанными выше двумя группами причин дестабилизации (общими и специфическими для России), можно выделить группу причин, связанных со сложностью национальной проблемы в СССР/России. И здесь благодушие элиты («союз нерушимый», «новая историческая общность») сыграло свою коварную роль. Старательно хранимая «мина замедленного действия» взорвалась, и это стало неожиданностью даже для серьезных исследователей и политиков.
В условиях крайне неустойчивой ситуации в стране гораздо более вероятным был вариант не спокойного и уверенного перехода от одной системы к другой, а краха и хаоса. Радикал-либеральную парадигму национальной политики (проявившуюся не столько в теоретической, концептуально-идеологической форме, сколько в практической политике, особенно в первой половине 1990-х гг.) можно определить следующим образом: это ориентация на конфликт ценностей различных видов политической культуры России; разрыв с национальными традициями, ориентация на идеализированный опыт Запада; принижение национальных интересов России; недооценка значения национального фактора в политической жизни России; ставка на стихийное, автоматическое решение общественных проблем (по модели рынка); принижение роли государства, федерального центра.
Стратегия радикал-либерализма, делавшего ставку на стихийно-автоматическое разрешение проблем, была ошибочной, опасной и во многом провоцирующей разрушительные тенденции. Вот результаты такой политики:
– в экономической сфере произошел глубокий спад, разрушение материальнотехнической базы;
– в социальной сфере: обнищание большинства народа, стратификационный раскол общества, крайняя поляризация богатых и бедных;
– в демографической сфере: вырождение населения, резкое сокращение продолжительности жизни, превышение смертности над рождаемостью, распад семьи, рост числа беспризорных детей и т.д.;
– в этнической сфере: резкое обострение межнациональных отношений, «парад суверенитетов», распад страны, война в Чечне, этнократия в республиках;
– в духовной сфере: разложение трудовой этики, падение нравов, разгул попсы и пошлости в культуре, разочарование и раздражение народа.
В результате наступила обратная реакция, которая могла обернуться реставрацией тоталитаризма. Новая команда В. Путина остановилась на центристской платформе, пытаясь найти формулу синтеза ценностей основных политических культур России. Эта платформа включает в себя элементы традиционной, современной, консервативной, умеренной, либеральной и коммунитарной (в т.ч. социалистической) политической культур.
Коммунитарная составляющая «социального государства» необходима в этой «обойме» для сохранения легитимности власти. Умеренно-либеральный компонент необходим, потому что без реальной модернизации, в т.ч. модернизации политической системы, Россия будет отодвинута на задворки современной цивилизации. Консервативный компонент необходим, поскольку за такой короткий срок (20 лет) российский менталитет не мог измениться радикально. Подвижки были, но после провала перестройки и потрясений 1991–93 гг. произошел откат. На первый план вышли ценности стабильности, утвердилась персональная легитимность власти, политический режим обозначил авторитарный крен.
В первом десятилетии XXI в. в России наблюдался рост популярности консервативных ценностей и синтез на этой основе компонентов трех политических культур: консерватизма, умеренного либерализма, социализма. Эта тенденция имеет для России фундаментальное значение, ибо способствует формированию единой базовой системы ценностей, преодолению раскола политической элиты и обоснованию стратегии государственного стро- ительства на современном историческом этапе.
В этом контексте формировалась и новая парадигма национальной политики:
– ориентация на синтез ценностей основных политических культур России, традиций и современности;
– признание особой значимости для России национальной проблемы;
– защита российских национальных интересов, ориентация на самостоятельную роль России в качестве одного из мировых центров;
– восстановление роли государства, в частности как федерального центра, ориентация на строительство централизованной федерации;
– связь решения национальной проблемы с преобразованиями во всех сферах общественной жизни, прежде всего в политической;
– использование стабилизирующих возможностей полупрезидентской республики, формирование системы доминирующей партии, установление режима «управляемой демократии», реформирования и совершенствования системы федеративных отношений, национальной политики в целом.