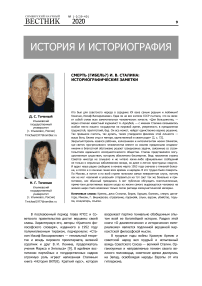Смерть (гибель?) И. В. Сталина: историографические заметки
Автор: Точеный Дмитрий Степанович, Точеная Наталья Григорьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.
Бесплатный доступ
Кто был для советского народа в середине XX века самым родным и любимым? Конечно, Иосиф Виссарионович. Едва ли не все жители СССР считали, что он являет собой сплав всех замечательных человеческих качеств. «Для большинства, - верно отмечал известный журналист А. Аджубей, - с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене, уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед. Он все может, найдет единственно верное решение. Так привыкли считать, так думать, таким утвердился феномен этой личности - выше бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде» [2, с. 72]. Закрытый Кремль казался рабочим, колхозникам и интеллигентам неким Олимпом, где светоч прогрессивного человечества вместе со своими преданными сподвижниками в благостной обстановке решает грандиозные задачи, связанные со строительством идеального коммунистического общества. Сталин представлялся могущественным существом, которому обеспечено бессмертие. Ведь население страны Советов никогда не слышало и не читало каких-либо официальных сообщений не только о серьезных заболеваниях вождя, но даже о легких простудных недугах. И вдруг наше радио сообщило в начале марта 1953 года сначала о тяжелой болезни, а потом и о кончине гения всех времен и народов. В это трудно было поверить. По Москве, а потом и по всей стране поползли самые невероятные слухи, потому как не мог «великий и ужасный» отправиться на тот свет так же банально и примитивно, как обычный гражданин. А вот публично обсуждать многочисленные, прямо-таки детективные версии ухода из жизни самого выдающегося человека на земном шаре стало возможно только после распада коммунистической империи.
Кремль, дача сталина, берия, хрущев, болезнь, смерть диктатора, микоян, г. вишневская, отравление, паранойя, слухи, версии, убийство, тюрьма, концлагерь, ссылка
Короткий адрес: https://sciup.org/14117516
IDR: 14117516
Текст научной статьи Смерть (гибель?) И. В. Сталина: историографические заметки
В послевоенный период глава КПСС и Советского правительства достиг вершины своей славы. Характеризуя его, авторы «Краткого философского словаря», изданного в 1952 году полумиллионным тиражом, подчеркнули: «Сталин Иосиф Виссарионович — гениальный теоретик и вождь мирового пролетариата, великий соратник и друг В. И. Ленина, продолжатель учения Маркса и Энгельса» [9]. В идейном воспитании партийных и государственных кадров огромную роль играет написанная Сталиным книга «История ВКП(б). Краткий курс», которая вооружает партию гениально обобщенным опытом всей ее богатейшей истории. Раздел этой книги «О диалектическом и историческом материализме» является подлинной вершиной марксистской философской мысли.
В трудные годы войны Красную Армию и советский народ вел мудрый и испытанный вождь Советского Союза — великий Сталин. Организуемые и направляемые гением своего великого полководца, советские армии двинулись на Запад, освобождая народы Европы от ига гитлеризма.
Семидесятилетие И. В. Сталина, отмечавшееся в декабре 1949 года, вылилось в могучую демонстрацию советского народа, международного пролетариата и всех трудящихся мира — демонстрацию любви и преданности великому учителю и вождю.
«Великие труды И. В. Сталина вооружают советский народ и большевистскую партию в борьбе за новые успехи и победы на пути к коммунизму» [9, с. 493].
«Все советские люди» — такое клише употребляли по радио и в газетах — могли спокойно, радостно и вдохновенно, уподобясь пчелам, трудиться на благо отчизны. Они были абсолютно уверены в том, что о каждом из них денно и нощно печется Иосиф Виссарионович, что это составляет смысл его жизни. Только очень немногие, общавшиеся с «солнцем нашей планеты» не один год, давали ему более трезвые оценки. (Это они смогли себе позволить после смерти Сталина.)
В конце XX века увидели свет воспоминания А. И. Микояна, в которых рисовалась сравнительно реалистическая картина жизни великого Учителя и его ближайшего окружения: «После окончания работы XIX съезда партии, 15 октября 1952 года, был назначен Пленум вновь избранного ЦК партии. По предложению Сталина было решено из Президиума ЦК КПСС образовать узкое Бюро Президиума из девяти человек, и он стал называть фамилии кандидатов, написанные на маленьком листочке. Ни моей фамилии, ни Молотова среди названных не было. Затем с места, не выходя на трибуну, сказал, что эти товарищи расходятся в крупных вопросах внешней и внутренней политики с партией и не будут введены в Бюро Президиума. Это выступление Сталина члены Пленума слушали, затаив дыхание. Никто не ожидал такого оборота дела…
Хотя Молотов и я после XIX съезда не входили в состав Бюро Президиума ЦК и Сталин выразил нам «политическое недоверие», мы аккуратно ходили на его заседания. И теперь передо мной и Молотовым встал вопрос, идти ли без приглашения 21 декабря на день рождения к Сталину. Если не пойти, значит показать, что мы изменили отношение к нему, потому что с другими товарищами каждый год бывали у него и вдруг прерываем эту традицию. Посоветовались об этом с Маленковым, Хрущевым и Берия, и те сказали, что, конечно, правильно сделаем, если поедем…
21 декабря 1952 года в 10 часов вечера вместе с другими товарищами мы поехали на дачу к Сталину. Он хорошо встретил всех. Отношение его ко мне и Молотову вроде было ровное, нормальное. Было впечатление, что ничего не случилось и возобновились старые отношения. Но через день или два то ли Хрущев, то ли Маленков сказал: «Знаешь что, Анастас, после 21 декабря, когда мы все были у Сталина, он очень сердился и возмущался тем, что вы с Молотовым пришли к нему в день рождения. Он строго предупредил: он вам больше не товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили».
За месяц или полтора до смерти Сталина Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо мне, высказывался в том плане, что якобы мы чуть ли не американские или английские шпионы.
Это вызвало у меня тревогу, что Сталин готовит что-то коварное. Я вспомнил об истреблении в 1936—1938 гг. в качестве «врагов народа» многих людей, долго работавших со Сталиным в Политбюро. Стало ясно, что Сталин хочет расправиться с нами и речь уже идет не только о политическом, но и физическом уничтожении. Я это понимал и решил больше, насколько это возможно, со Сталиным не встречаться. Можно сказать, что мне повезло в этом смысле, что у Сталина обострилась болезнь» [14, с. 572, 580].
Но не только Микоян и Молотов переживали худые времена. Из числа своих гостей на ночных дачных посиделках Иосиф Виссарионович также исключил Ворошилова и Кагановича. «Этих смертников, — пишет Э. Радзинский, — он уже не зовет. Только четверых из Президиума мрачный гений приглашает теперь к себе. Маленкова, Берию (давнишних друзей. — Авт. ) и двух новых людей в руководстве — Хрущева и Булганина. Эта четверка должна будет действовать вначале против опальных стариков, потом друг против друга. Затем их всех сменят новые роботы. Партийная тюрьма уже ждала новых обитателей. Кандидаты на смерть названы. И будущие жертвы, как римские сенаторы во времена Нерона, покорно ждут своей участи. Страх парализовал их» [17, с. 1230].
Сталин планомерно готовил новый этап большого террора. Ему надо было запугать не только партийных бюрократов, но и широкие слои москвичей. 13 января 1953 года «Правда» объявила о разоблачении террористической группы евреев-врачей, планировавших уничтожение руководителей партии и правительства. Якобы их действия направляла американская разведка. Участники многочисленных митингов требовали сурового наказания врагов народа, шпионов и их покровителей. На фоне этой националистической истерии Сталин хотел обвинить в измене Ворошилова, Микояна, Молотова и предать их суду по образцу процессов 1937 года. Симптоматично, что органы НКВД по приказу лидера большевистской партии арестовали жену Молотова [5, с. 355].
Жительница Москвы Н. Рапопорт, бывшая в то время школьницей, писала позднее о леденящих душу слухах, распространявшихся в столице в те дни: «Широко обсуждался вопрос, как будут казнить преступников. Информированные одноклассники утверждали, что их повесят на Красной площади. Волновались: будет ли туда открытый доступ или только по пропускам; иначе любопытствующие подавят друг друга и могут снести Мавзолей» [23, с. 576]. Пошли толки, что во время публичной казни разгневанная толпа вырвет осужденных из рук палача и сама расправится с ними. Такое могло вполне случиться, если бы не сенсационные события на даче генсека.
28 февраля 1953 года Маленков, Берия, Хрущев и Булганин ужинали на даче со Сталиным. Вечерняя трапеза, весьма обильная, затянулась до шести утра. Иосиф Виссарионович пребывал в отличном состоянии духа и подчиненные, естественно, тоже. «Когда выходили в вестибюль, — отметил Хрущев в своих мемуарах, — Сталин, как обычно, пошел проводить нас. Он много шутил. Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось, а не всегда обеды кончались в таком добром тоне» [22, с. 263].
Многочасовое ночное потребление большого количества пищи и неумеренное возлияние плохо закончилось для 73-летнего генсека. 1 марта охранники нашли его лежащим на полу в библиотеке. Через четыре дня, не приходя в сознание, он скончался. О реакции широких слоев населения на скорбную весть очень правдиво и образно поведала в своих воспоминаниях Г. Вишневская, знаменитая оперная певица: «Когда Хозяин умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское горе. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватили всех. Ведь тридцать лет вся страна слышала только — Сталин, Сталин, Сталин!..
На войне умирали «за родину, за Сталина», вдруг умер он — который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас.
Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с опухшими от слез лицами толпятся на улицах… Как в опере «Борис Годунов», голодный народ голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?
По улицам Москвы из репродукторов катились волны душераздирающих траурных мелодий… Страна замерла, и все застыло… Сергей Прокофьев (великий композитор. — Авт .) умер в тот же день, что и Сталин, — 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя… Сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу… Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана» [6, с. 128]. Естественно, что в такой ситуации нашла простор многоустная молва о причинах смерти (гибели) Сталина. Эти легендарные истории, распространявшиеся тогда, пересказывают до сих пор некоторые исследователи, писатели и журналисты.
Самый драматичный слух об убийстве Иосифа Виссарионовича, передававшийся шепотом из поколения в поколение, недавно воскресил в своей книге В. Суходеев. Вот как, по мнению неизвестного нам простого советского человека, завершил жизнь Отец народов. Место его убийства — Кремль (немногие тогда знали, что Сталин работал в основном на даче). Время шекспировских страстей — 1 марта. Идет заседание Президиума ЦК КПСС. Обсуждается вопрос о наказании участников террористической группы евреев-врачей. Вождь объявил о своем решении: членов названной банды немедленно казнить, а несколько сотен тысяч представителей этой преступной нации выслать из центральных областей в районы Севера и Дальнего Востока.
Дальше случилось нечто невероятное: Лазарь Моисеевич Каганович «потребовал от Сталина создания особой комиссии по расследованию «дела врачей», отмены приказа о депортации всех евреев в отдельную зону СССР. Порванный партийный билет Каганович бросил в Сталина. Кагановича поддержали другие члены Президиума ЦК, кроме Берии и Хрущева. Сталин разъярился. Микоян заявил, что «если через полчаса мы не выйдем свободными из этого помещения, армия займет Кремль». У Сталина случился удар. Он упал без сознания. Желая привести его в чувство, Молотов подал стакан коньяка. Придя в чувство, Сталин велел всем удалиться, кроме Берии и Маленкова, которым сказал, что его отравил Молотов» [18, с. 22]. В. Суходеев сообщает также об имевших место полвека назад пересудах, из которых следует, что с Иосифом Виссарионовичем расправился Л. М. Каганович, который будто бы принудил свою племянницу Розу дать ему яд [18, с. 95].
А сколько еще было сложено сногсшибательных легенд, на базе которых можно было бы снять интересные фильмы-ужастики! В хрущевские времена Э. Радзинскому по секрету рассказали следующее предание о погибели Учителя от рук соратников-заговорщиков: «Смерть Хозяина произошла совсем не в Кремле, а на ближней даче. В ночь на 1 марта охранники Сталина по телефону вызвали Берию и сказали: «Хозяин подозрительно долго не выходит из своих комнат». Берия позвонил Хрущеву и Маленкову, они все вместе приехали и вошли в его комнату. Он лежал без сознания и вдруг зашевелился. Тогда Хрущев бросился к нему и стал его душить, а за ним уже все накинулись на тирана. И придушили его. Всех сталинских охранников Берия расстрелял в ту же ночь. Стране сообщили о болезни Сталина, когда он уже был мертв» [17, с. 1235].
Слухи о последних часах и днях жизни великого диктатора были яркими, загадочными, завораживающими и едва ли не фантасмагорическими. Их хотя бы относительную достоверность удалось взвесить только после публикации мемуаров на рубеже XX—XXI вв. Конечно, самыми весомыми из них оказались воспоминания Н. С. Хрущева — участника последней веселой вечеринки на даче у Сталина, состоявшейся 28 февраля 1953 года.
1 марта Никите Сергеевичу позвонил Г. М. Маленков и сообщил, что будто бы что-то произошло с Хозяином и надо срочно выехать к нему: «Я сейчас же вызвал машину. Быстро оделся, приехал… Зашли мы в комнату. Сталин лежал на кушетке… Я очень волновался и, признаюсь, жалел, что можем потерять Сталина, который оставался в крайне тяжелом положении. Врачи сказали: чаще всего такие заболевания непродолжительны, а кончаются катастрофой… Сталин лежит без сознания, не сознает, в каком он состоянии.
Как только Сталин свалился, Берия стал в открытую пылать злобой против него. И ругал, и издевался над ним. Просто невозможно его слушать! Интересно, впрочем, что как только Сталин пришел в чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда же Сталин опять потерял сознание и закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол. Вот истинный Берия! Коварный даже в отношении Сталина, которого он вроде возносил и боготворил… Были дни, когда Сталин боялся Берии. Берия был способен через своих людей сделать со Сталиным то, что проделывал с другими людьми по поручению того же Сталина: уничтожать, травить и прочее. Поэтому Сталин, видимо, считал, что Берия способен сделать то же самое и с ним» [22, с. 265].
Приведенный текст воспоминаний доказывает, что Н. С. Хрущеву очень не нравился Л. П. Берия. Но столь же очевидно, что Никита Сергеевич, демонстрируя вполне понятную и оправданную ненависть к шефу репрессивных органов СССР, не привел никаких юридических фактов, компрометирующих его. Тем не менее мемуары Н. С. Хрущева стали для некоторых исследователей отправной точкой обвинения Лаврентия Павловича в организации убийства Сталина.
Вот какую версию ликвидации гения зла изложил А. Антонов-Овсеенко в 1994 году в книге «Портрет тирана»: «Вечер 28 февраля четверо особо приближенных — Хрущев, Берия, Маленков, Булганин — провели со Сталиным за обеденным столом на даче. Хозяин изрядно выпил и проводил гостей после полуночи, будучи, как запомнилось Хрущеву, в хорошем настроении. 1 марта вечером их срочно вызвали на дачу. Сталин потерял сознание, упал с кровати, лишился речи. Однако четверка не осталась у больного. Все уехали, не вызвав даже врача. Почему? Ответ на этот естественный вопрос дал многолетний охранник вождя А. Т. Рыбин. Когда дежурный офицер с тревогой сообщил Берии, что товарищу Сталину стало совсем плохо и он хрипит, Лаврентий Павлович резко оборвал его: «Не поднимайте паники, он просто заснул и храпит во сне». Кто-то, узнав о критическом состоянии Сталина, позвонил на дачу по телефону, предложил врачебную помощь. Берия, грубо обругав звонившего, сказал, что никто в помощи не нуждается.
Более тринадцати часов не вызывали врачей к пораженному инсультом больному» [3, с. 421].
Спустя пять лет после выхода монографии о Сталине-тиране А. Антонов-Овсеенко издал интересную книгу о Л. П. Берии. Основным достоинством ее стал серьезный анализ преступлений, совершенных этим редкостным злодеем и палачом. Найдем ли мы в этом расследовании убедительные доказательства соприкосновенности Лаврентия Павловича с убийством своего патрона? Вот резюме обвинительного заключения автора биографии Берии: «Участие его в устранении Вождя до сих пор вызывает споры. Но в ходе судебного расследования, если бы оно состоялось при жизни заговорщиков, можно легко обойтись без личных признаний Лаврентия Берии и его соучастников. Вполне хватило бы косвенных улик. Иосифа Сталина устранил его верный соратник товарищ Лаврентий. А детали убийства — какие химические средства, когда и кем были применены — эти сведения сгорели вместе с ним в печи московского крематория в декабре 1953 года» [4, с. 426]. Наверное, такие аргументы нельзя признать убедительными.
Безоговорочным сторонником версии об убийстве Иосифа Виссарионовича Лаврентием Павловичем является М. Пазин. «Кто же мог отравить Сталина? Маленков? Хрущев или Берия?» — спрашивает он. И без колебаний отвечает: «Наше расследование однозначно указывает на Берию — у других партайгеноссе такой возможности не было. А вот у Берии она была…» Не поставил в тупик М. Пазина и нелегкий вопрос о том, что же побудило Маленкова и Хрущева присоединиться к Берии: «В начале 1953 года для них наступил критический момент — или они, или Сталин. Они боялись, что Сталин расправится с ними так же, как с Каменевым, Зиновьевым, Троцким, Бухариным, Рыковым и другими лидерами СССР… Главным действующим лицом в устранении Сталина стал Берия» [16, с. 176].
В том, что судьбу лидера советского режима решил квартет в составе Берии, Маленкова, Хрущева и Булганина, убежден авторитетный историк А. Авторханов. Он в такой же степени уверен, что ведущую роль в этом заговорщическом временном коллективе сыграл Лаврентий Павлович. Вот какие доводы в пользу такого тезиса им были приведены: «а) накануне заболевания всю ночь субботу 28 февраля Сталин провел за выпивкой именно с этой четверкой; б) вечером 1 марта охрана доложила четверке о болезни вождя, но они не стали вызывать врачей, отказались видеться с больным и разъехались по домам; в) врачи, которых вызвали слишком поздно, никому не известны — все врачи, которые раньше лечили Сталина, были заменены; г) Берия открыто издевался над умирающим Сталиным — то есть был уверен, что часы его сочтены; д) после смерти Сталина была создана медицинская комиссия для подтвер- ждения диагноза и того, что вождя лечили правильно, — это стремление заручиться свидетельством, дабы доказать свое алиби, выдает заговорщиков с головой» [1, с. 219].
Точку зрения А. Авторханова в целом разделяет А. Лаврин (правда, с существенными оговорками, заслуживающими внимания). «Представляется весьма вероятным, — полагает он, — что Берия, понявший стратегический замысел Сталина — уничтожение по прежнему шаблону старых противников при помощи новых выдвиженцев, успел перехватить инициативу и нанести упреждающий удар. Сделать это он мог с помощью яда, парализующего центральную нервную систему. И все же нельзя быть до конца уверенным, что к смерти Сталина причастны лапы Берии, а не руки провидения. Смерти великих диктаторов почти всегда наступают в срок, когда диктаторы исчерпывают свою способность властвовать. Замечу, что к 1953 году, судя по воспоминаниям Хрущева и других близких к вождю лиц, у Сталина стали отчетливо проступать черты паранойи и маразма. А это значило, что он неумолимо двигался к гибели» [12, с. 485].
Итак, до сих пор не выявлены ни прямые, ни косвенные улики деяний Берии, направленных на подрыв здоровья или тем более лишение жизни Сталина. Этот факт поощряет отдельных историков и политиков к поискам сюжетов, как-то порочащих или бросающих тень на других членов Президиума ЦК КПСС. Главной их мишенью стал Н. С. Хрущев. Понятно, что особенно не жалуют Никиту Сергеевича страстные почитатели Иосифа Виссарионовича.
Злодея, затеявшего разоблачение культа гения всех времен и народов, клянет на чем свет стоит С. Кремлев: «Хрущев был зверем, а не человеком… Сталин же был прежде всего человеком — всегда и во всем. Хрущев в ходе ужина (28 февраля 1953 года. — Авт .) укрепился в понимании того, что Сталин должен умереть… И так ли уж существенно, Хрущев ли влил отраву в чашу Сталина или это сделал кто-то из персонала или охраны дачи по хрущевскому кивку… У Хрущева — единственного из всех коллег по высшему руководству — был и личный мотив для убийства Сталина: судьба сына. Леонид Хрущев был то ли сбит в бою, то ли просто не вернулся из боя и оказался в плену… Сталин не стал санкционировать какие-то действия на высоком уровне по освобождению из плена рядового летчика. Хрущев затаил злобу — ведь он был человеком мстительным» [10, с. 376—377].
Версия вероломного убийства любимого вождя проклятым Хрущевым произвела глубокое впечатление и на В. А. Крючкова. И он тоже, как настоящий сталинский чекист, не стал утруждать себя поиском необходимых улик: «Первое, с чего начал Никита Хрущев, — это борьба с И. В. Сталиным. Да, впрочем, бороться с ним он стал изуверским способом еще в последние дни жизни генсека. В результате инсульта И. В. Сталин несколько дней находился без памяти. Сначала почти сутки к нему вообще не подпускали врачей. Тогда, по словам Л. П. Берии, Иосиф Виссарионович якобы крепко уснул, пусть, мол, отдыхает, не надо его беспокоить. То же самое твердил Н. С. Хрущев. И. В. Сталин почти сутки лежал без должной медицинской помощи. Так Н. С. Хрущев стал рассчитываться с И. В. Сталиным, еще живым, но физически беспомощным человеком» [11, с. 65—67].
Хорошо известно, что обретение вечного покоя рядовыми старыми и больными людьми не вызывает особого интереса. Но иное дело, когда речь идет о кончине великого диктатора, да еще при таинственных обстоятельствах. Здесь каждый человек (а уж тем более историк) торопится высказать свое компетентное мнение о причинах «совершенно неожиданной» и «загадочной смерти». Вот и В. Суходеев, помимо передачи различных слухов о «странном окончании жизни» Иосифа Виссарионовича, решил провести собственное расследование и дать обоснованное заключение на этот счет. И пришел к следующему выводу. Во-первых, на его взгляд, главным ненавистником родного Сталина являлся Хрущев, что именно он более всех мешал оказывать медицинскую помощь умиравшему вождю. Во-вторых, В. Суходеев выявил, что Никита Сергеевич — в отличие от заурядных карьеристов Маленкова и Берии — «хотел изменения ленинской политики, которую проводил Сталин» [18, с. 95]. Нам кажется, что такой тезис о теоретических разногласиях Хрущева (который и книг-то почти не читал) с корифеями марксистской науки звучит не очень убедительно, может быть, даже смешно.
…Непробудным сном Сталин почил давным-давно. Но не все способны воспринять этот факт аналитически, умудренно: у историков Г. И. Торбеева и П. Г. Свечникова в оценке событий, произошедших 1—5 марта 1953 года, доминирует эмоциональный подход (они до сих пор не могут свыкнуться с тем, что тогда заболел и умер благодетель и спаситель человечества). Разумеется, в таком упадочном настроении утрачивается способность рассуждать логи- чески. Хочется скорее выявить и заклеймить подлых убийц любимого Иосифа Виссарионовича. С одной стороны, они верно констатируют: «До сих пор покрыты тайной события 1 марта 1953 года. Но не сложно установить, что произошло… Поведение охранников непонятно». С другой — те же авторы, не сомневаясь, без всяких оговорок называют имена убийц, которые действовали как «иезуиты»: «Ни Берия, ни Маленков, ни Хрущев палец о палец не ударили, чтобы хоть что-то предпринять для спасения Сталина. Неужели они не понимали, что 74-летний человек, неоднократно страдавший от серьезных заболеваний, упавший в обморок и найденный на полу в полупарализованном виде, нуждается в срочной медицинской помощи? А они даже не удосужились зайти в дом, чтобы лично, а не со слов охраны убедиться в том, что произошло что-то неординарное. Но эта вельможная троица не только сама не стала вызывать врачей, но и охранникам запретила это сделать, сославшись на то, что товарищ Сталин спит. И каждый из них понимал, что чем дольше не оказывать ему медицинскую помощь, тем больше шансов на летальный исход. А раз так, то все трое виноваты в смерти Сталина. Это было убийство бездействием. Сознательное и коварное» [19, с. 552—553].
Итак, обзор российской литературы, посвященной теме смерти великого диктатора (по мнению некоторых, богоданного лидера), приводит к единому непреложному выводу: его погубил либо один из членов Президиума ЦК КПСС, либо извела группа лиходеев из названного партийного ареопага. Ироничный и вместе с тем вдумчивый комментарий к этому тезису дал Л. Млечин: «И по сей день многие люди уверены, что Сталина убили. Версий множество. Одна фантастичнее и абсурднее другой. Но характерно: убийцу Сталина ищут среди его ближайшего окружения, то есть бессознательно воспринимают тогдашнее руководство страны как шайку преступников, ненавидящих друг друга и способных на все» [15, с. 386]. Такая правдивая оценка обитателей Кремля, действовавших в середине 40-х — начале 50-х годов XX века, несколько смущает и коробит искренних поклонников Иосифа Виссарионовича. Но никак не может согласиться истинный патриот Отечества с мыслью о том, что вождя советского народа, всего прогрессивного человечества, учителя вселенной могли столь безжалостно прикончить свои же граждане СССР и члены КПСС. Лучше, если злодеями станут представители империалистических государств. Помните, как проница- тельный Иван Кузьмич Шпекин, персонаж комедии Гоголя, очень просто объяснил ужасную новость о приезде ревизора в уездный город России: «Это все француз гадит» [8, с. 14].
Вот и уже упомянутый нами С. Кремлев, инкриминировавший Хрущеву отравление родного и любимого вождя, выдвинул еще одну версию умерщвления Иосифа Виссарионовича. Заговор против Сталина, по его мнению, организовали Золотая Элита, Золотой Миллиард, Мировой Капитал, советская чернь, золотая столичная богема, замаскировавшиеся троцкисты и оппозиционеры, псевдонаучная элита, затаившиеся остатки старой царской буржуазии, националистические и космополитические круги элитного советского еврейства, недобитое купечество и кулачество, вся сволочь Советского Союза, не желавшая работать, но много иметь (воры, мошенники, спекулянты, прохиндеи-завмаги, уцелевшие блатные паханы и проститутки).
Как же должна действовать эта разномастная масса, одержимая дьявольским желанием уничтожить товарища Сталина? Враги, поясняет С. Кремлев, должны выступить «в виде своего рода звездного пробега или похода. Его участники выходят из разных пунктов на периферии и по заранее разработанным маршрутам собираются в одной точке. Кто-то разрабатывал свой маршрут, сидя в Лондоне или Вашингтоне. Кто-то — в Москве или Жмеринке… Кто-то имел огромные материальные возможности для организации заговора… Кто-то из врагов Сталина носил цилиндр, кто-то ермолку или бейсболку, а кто-то интеллигентскую шляпу или псевдодемократическую кепку» [10, с. 431].
Далее С. Кремлев сообщает в своей книге, что враги Сталина, социализма, советской власти и России все-таки добились своего. Но, к сожалению, он не обмолвился и словом о том, как практически недруги СССР решили задачу устранения Иосифа Виссарионовича. А может быть, империалисты действовали в союзе с иудой Хрущевым?
Подобно С. Кремлеву (сочинителю разных версий убийства руководителя КПСС и Советского государства), на два стула сел и М. Пазин. Во-первых, как мы уже отметили, он выразил убеждение в том, что великого кормчего отравил Берия, а во-вторых, не отверг и возможности убийства вождя агентами спецслужб США и Израиля («И сотворили они это черное дело путем взрыва дачи Сталина»). Кровь стыла у нас в жилах от ужаса, когда мы читали страницу книги М. Пазина, описывающую невиданное злодеяние гнусного диверсанта.
Поневоле всплывают в памяти строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»:
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал! [13, с. 8].
Да, все попытки российских историков найти убийц Сталина не дали реальных результатов. Есть пылкие признания в любви к Иосифу Виссарионовичу, раздаются проклятия в адрес того или иного соратника великого вождя, плодятся фантастические выдумки о страшных террористах, подосланных мировым капитализмом. Но так и нет тех увесистых улик, дающих право указать пальцем на того, кто совершил преступление века и украл у человечества надежду на вечное коммунистическое счастье.
Ищут настойчиво убийцу Великого экзекутора и зарубежные специалисты. Любопытно узнать, что написал о его смерти Д. Хоскинг, один из самых квалифицированных историков Англии: «5 марта 1953 г. скоропостижно скончался Сталин. Зная о его планах по поводу ближайших соратников, нетрудно задаться вопросом: была ли эта смерть естественной? Ясного ответа не существует. С одной стороны, он был сильно болен: несколькими годами ранее он перенес первый удар. С другой стороны, у сотрудников Сталина (если их можно назвать таковыми) было предостаточно причин для того, чтобы ускорить его конец. В течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти Сталина, были уволены его личный секретарь Поскребышев, начальник охраны генерал Власик и личный психиатр доктор Виноградов. Последние двое были арестованы. Сталин пришел к выводу, что им нельзя больше верить. Его паранойя достигла той стадии, когда уже начала угрожать его собственной безопасности. Когда в ночь с 1 на 2 марта он испытал очередной удар, его дача была изолирована от внешнего мира войсками службы безопасности. Существовала прекрасная возможность лишить его медицинской помощи или даже сделать укол, который мог помочь ему отправиться на тот свет. Дочь Сталина Светлана рассказывала, что когда она видела отца в последний раз, его окружали неизвестные врачи» [21, с. 302—303].
Вот и такой опытный, талантливый историк, как Д. Хоскинг, бросив острый взгляд на события в Кремле в феврале-марте 1953 года, не нашел злодея, убившего Сталина. А может быть, задумался Л. Млечин, генералиссимус простился с жизнью без чьей-либо преступной помощи? И предложил свою версию событий, очень правдоподобную, с нашей точки зрения: «1 марта после отъезда членов президиума Сталин удалился в библиотеку. Здесь у него произошло кровоизлияние в мозг. Сталин потерял сознание и упал на пол у дивана. Так он и лежал без медицинской помощи. Из-за его собственных маниакальных страхов охрана и прислуга не смели войти к нему в комнату, не решались по собственной инициативе вызвать врачей. Дозвонились сначала до Г. М. Маленкова. В два часа ночи тот приехал на дачу, взяв с собой Берию.
Охранники доложили, что нашли Сталина на полу, подняли и положили на диван. Теперь он вроде как спит. Маленков с Берией не вошли в комнату: вдруг Сталин проснется и увидит, что они застали его в таком положении. Все члены Президиума ЦК боялись Сталина. Только вечером 2 марта у постели Сталина появились врачи. Первый подошедший к Сталину доктор страшился взять больного за руку.
Приехал министр госбезопасности С. Д. Игнатьев; он также боялся войти в дом уже умирающего Сталина. Все еще трепетали перед ним. Никто не смог бы поднять на него руку. Сталин убил сам себя. Он создал вокруг себя такую атмосферу страха, что его собственные помощники и охранники не решились помочь ему в смертный час» [15, с. 386—387].
Вопросы, возникшие в связи с таинственными обстоятельствами кончины кровавого диктатора (благодетеля советского народа?), будут волновать историков еще долгое время. Для широких же масс будет иметь огромное положительное значение сама смерть величайшего деспота. На весах истории она перетянет, пожалуй, выдающиеся реформы Александра II. Каким гуманным эхом отдалась по России не только дата вечного упокоения Иосифа Виссарионовича (5 марта 1953 года), но и весть о его тяжелой болезни.
…3 марта Евгения Гинзбург, истерзанная 16-летними муками пребывания в тюрьмах и концлагерях, встретила на Колыме. Обреченная на вечное поселение, ни на что не надеясь, она мечтала о наступлении дня избавления от бесконечных страданий: «Ну когда же придет долгожданная смерть?.. Ведь только она может отпустить меня на свободу. И главное — она погасит память. Я обессилена настолько, что не могу больше выносить не только ожидания новых мук, но даже памяти об уже пройденных. В это время кто-то включил вилку репродуктора в штепсель. И вдруг сквозь трескучие разряды я слышу… что я слышу, Боже милосердный:
— Наступило ухудшение… Сердечные перебои. Пульс нитевидный… Мы передавали бюллетень о болезни Иосифа Виссарионовича Сталина…
— Антоша, — твердила я, вцепившись в руку мужа, — Антоша… А вдруг… А вдруг он поправится?
— Не говори глупостей, Женюша, — почти кричал возбужденный Антон, — я говорю тебе как врач: выздоровление невозможно… Это агония…
Я упала руками на стол и бурно разрыдалась. Тело мое сотрясалось. В одну минуту передо мной пронеслось все. Все пытки и все камеры. Все шеренги казненных и несметные толпы замученных. И моя, моя собственная жизнь, уничтоженная Его дьявольской волей.
Где-то там, в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание кровавый идол XX века — это было величайшее событие для миллионов еще недомученных его жертв…
В скорбные дни погребения Великого и Мудрого в эфире царил Иоганн Себастьян Бах… Политзаключенные, озираясь по сторонам, обменивались потаенным блеском глаз, возбужденными шепотами. Все были словно пьяны. У всех кружились головы от предвкушения перемен…
— Говорят, Молотов будет.
— Вряд ли… Тупица… Может только зады твердить…
— Скорей, Берия...
— А тогда как бы еще солонее не было…
Но единой и общей для всех была уверенность, что кто бы ни сел сейчас на престол московский (в том, что диктатура будет единоличной, как-то даже не сомневались), он будет менее жесток, чем покойник. Потому что более жестоким быть нельзя не только по человеческой, но даже по дьявольской мерке» [7, с. 544—545].
Группа выдающихся историков во главе с Б. Харенбергом дала И. В. Сталину в «Хронике человечества» краткую и точную характеристику: «…Еще при жизни В. И. Ленина встал во главе партии. Одолев в жесточайшей борьбе за власть соперников, он с конца 20-х гг. фактически был единоличным правителем огромного государства. Под его руководством аграрная Россия стала одной из самых могущественных держав мира, а после победы во Второй мировой войне (наряду с США) — одной из супердержав. Эти достижения были оплачены ценой неисчис- лимых жертв всего народа. Массовые репрессии, подавление всякого инакомыслия стали неотъемлемой частью того явления, которое именуется сталинизмом» [20, с. 990].
1 марта 1953 года, в момент падения тирана в бессознательном состоянии, в Советской России закончилась эпоха средневекового кровавого варварства.
Список литературы Смерть (гибель?) И. В. Сталина: историографические заметки
- Авторханов А. Загадка смерти Сталина / А. Авторханов // Новый мир. - 1995. - № 15. - С. 215-226.
- Аджубей А. Те десять лет / А. Аджубей. - М.: Советская Россия, 1989. - 335 с.
- Антонов-Овсеенко А. Берия / А. Антонов-Овсеенко. - М.: АСТ, 1999. - 480 с.
- Антонов-Овсеенко А. Портрет тирана / А. Антонов-Овсеенко. - М.: Грегори-Пейдж, 1994. - 480 с.
- Верт А. История Советского государства / А. Верт. - М.: Аванти, 1995. - 479 с.
- Вишневская Г. Галина. История жизни / Г. Вишневская. - М.: Горизонт, 1992. - 574 с.
- Гинзбург Е. Крутой маршрут. Хроника культа личности / Е. Гинзбург. - М.: Советский писатель, 1990. - 608 с.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. / Н. В. Гоголь. - М.: Госполитиздат, 1959. - Т. 4. - 464 с.
- Краткий философский словарь. - М.: Главполиграфиздат, 1952. - 614 с.
- Кремлев С. Зачем убили Сталина? Преступление века / С. Кремлев. - М.: Эксмо, 2011. - 478 с.
- Крючков В. А. Личность и власть / В. А. Крючков. - М.: Просвещение, 2004. - 349 с.
- Лаврин А. Хроника Харона. Энциклопедия смерти / А. Лаврин. - М.: Московский рабочий, 1993. - 511 с.
- Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. / М. Ю. Лермонтов. - М.: Госполитиздат, 1957. - Т. 1. - 426 с.
- Микоян А. Так было. Размышления о минувшем / А. Микоян. - М.: Вагриус, 1999. - 637 с.
- Млечин Л. Сталин / Л. Млечин. - М.: Пальмира, 2017. - 447 с.
- Пазин М. Страсти по власти: от Ленина до Путина / М. Пазин. - СПб.: Питер, 2012. - 384 с.
- Радзинский Э. Загадки жизни и смерти / Э. Радзинский. - М.: Вагриус, 2003. - 1247 с.
- Суходеев В. Сталин. Энциклопедия / В. Суходеев. - М.: Алгоритм, 2014. - 640 с.
- Торбеев Г. И. Сталин: правда и вымысел / Г. И. Торбеев, П. Г. Свечников. - Челябинск, 2007. - 607 с.
- Харенберг Б. Хроника человечества / Б. Харенберг. - М.: Большая энциклопедия, 1996. - 1200 с.
- Хоскинг Д. История Советского Союза / Д. Хоскинг. - Смоленск: Русич, 2000. - 490 с.
- Хрущев Н. Воспоминания. Избранные фрагменты / Н. Хрущев. - М.: Вагриус, 1997. - 511 с.
- Энциклопедия. История России. XX век. - М.: Аванта, 1995. - 670 с.