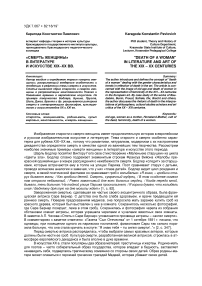«Смерть женщины» в литературе и искусстве XIX-XX вв
Автор: Карагода Константин Павлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор вводит и определяет термин «смерть женщины», раскрывающий гендерные особенности и тенденции в рефлексии темы смерти в искусстве. Статья выявляет образ старости и смерти женщины в репрезентации женственности Нового и Новейшего времени в европейском искусстве. На примере творчества Бодлера, Бунина, Пруста, Шиле, Дикса, Брехта и др. раскрывается риторика смерти в интерпретациях философов, культурологов и искусствоведов ХХ и XXI вв.
Старость, женщина-мать, родина-мать, культ мертвых, женственность, "смерть женщины"
Короткий адрес: https://sciup.org/14940954
IDR: 14940954 | УДК: 7.067
Текст научной статьи «Смерть женщины» в литературе и искусстве XIX-XX вв
Изображение старости и смерти женщины имеет продолжительную историю в европейском и русском изобразительном искусстве и литературе. Тема старости и смерти особенно характерна для рубежа ХIХ–ХХ вв., потому что романтизм, натурализм, модернизм с их настроением декадентства определяли смерть в качестве одной из важнейших тем творчества. Рассмотрим наиболее значимые примеры «смерти женщины» в литературе и искусстве этого периода.
Шарль Бодлер посвятил Виктору Гюго свое стихотворение «Маленькие старушки» из цикла «Цветы зла». Бодлер словно подражает знаменитым строкам Франсуа Вийона «Жалобы прекрасной оружейницы» в жанре рассуждения о неизбежности смерти. Бодлер «следит» за старушками, которые встречаются ему в толпе на улицах Парижа. Поэт сравнивает старух с детьми, проводя всяческие аналогии и замечая, что у них «глаза детей». Бодлер видит цикл рождения и смерти, в своей поэтической фантазии он сравнивает гроб с колыбелью: «Я знаю, - гробики старух бывают малы, / Как гробики детей. Смерть, сумрачный мудрец, / В том сходстве символ нам открыла небывалый, / Равно заманчивый для всех больных сердец. / Когда передо мной, бывало, тень больная /На людной улице Парижа проскользнет, /Я горько думаю, что колыбель иная / Бедняжку дряхлую на дне могилы ждет» [1, с. 82].
Завороженная смертью, сделавшая ее частью своего эксцентричного образа, была французская актриса Сара Бернар. С детства она была слаба здоровьем, и врачи предвещали ей раннюю смерть. Поверив предсказаниям медиков, она попросила мать заранее купить гроб из красного дерева, который был выставлен у нее в комнате. Сохранилось несколько фотографий, где Сара Бернар позирует, лежа в этом гробу. Сохранилась и фотография черепа из собрания обстановки комнат актрисы, которая украшала черепами и чучелами животных свои комнаты. В заметке А.П. Чехова «Опять о Саре Бернар» упоминается прозвище актрисы – «ангел смерти». В комментариях к заметке отмечено: «Газета “Сын Отечества” от 1 октября 1881 г. писала, что однажды, при посещении одного из парижских госпиталей, физиономия Сары так сильно поразила больную, что она стала кричать в испуге: “Я знаю тебя – ты ангел смерти!..”» [2, с. 347].
Перед смертью актриса распорядилась, чтобы выбрали самых красивых актеров, которые должны были нести ее гроб. Культура смерти, разработанная великой актрисой, строилась в атмосфере европейского декаданса и была вполне в духе времени.
В искусстве ХХ в. стали популярны два образа матерей: преступницы и жертвы. Родина-мать для поэтов – часто собирательный образ государства, которое впадает в бедность, заставляет ненавидеть себя, подвергаясь трагическому осмеянию со стороны своих детей. Образ родины-матери может сливаться с героиней греческих трагедий Медеей, которая убивает своих детей.
Можно привести пример насмешки (трагического осмеяния) родины-матери в стихотворении Бертольда Брехта: «О, Германия, бледная мать! /Благодари сыновей своих, /Превративших тебя в посмешище /Или в пугало » [3, с. 177]. Это стихотворение было написано в 1933 г. и является отголоском пережитого немецким народом поражения в Первой мировой войне.
Образ трагикомической бедности и страдания женщины в творчестве Бертольда Брехта сложился в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети». Авантюристка и маркитантка времен Тридцатилетней войны живет за счет войны и страдает от нее.
В 1912 г. немецкий поэт Готфрид Бенн в одном из стихотворений пишет: « Моя мать настолько бедна, / Что вы бы расхохотались с первого взгляда». Поэт хочет показать униженную, осмеянную мать, показать бедность как позор. Она претерпевает горькие насмешки общества, безжалостного и циничного. Когда его мать умерла, он оставил такие строки: «Ты на челе моем раскрытой раной / И рана не смыкается никак, /Хоть и болит лишь изредка. Но как / Не рухнуть сердцу в пустоту, /Когда внезапно чувствуешь во рту /Вкус крови пьяной?» [4, с. 69]. Разъединение поэта с матерью описано так, словно произошла хирургическая ампутация руки или органа, боль поэта - как кровоточащая рана.
И.А. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева» (1927–1933 гг.) оставил пронзительные строки о переживании смерти матери его героя: «Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, – чего стоит один этот вечный страх потери любимого! <…> В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?» [5, т. 3, с. 272–273]. «Любовь у Бунина часто связана с изображением смерти. Он обладал не только утонченным чувством жизни, но настолько же утонченным ощущением смерти. В центре жизни у него всегда находится смерть, а в центре смерти жизнь» [6, с. 40]. Бунин в своем романе представляет внутренний диалог героя со своей памятью. Давно умершие люди воскрешаются в строках его воспоминаний, все близкие его сердцу живут только благодаря его памяти о них. В своем дневнике он писал: «Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют – в моей памяти. Когда умру, им полный конец» (Дневник, 22 сентября 1942 г.).
В 1911 г. австрийский художник Эгон Шиле пишет портрет своей матери Марии Соукупо-вой-Шиле («Спящая мать художника». Галерея Альбертина, Вена): горизонтальное положение тела матери Шиле, ее белые, сложенные на животе руки, черное покрывало, закрывающее ее, черная высокая прическа, открытый лоб и лицо, выражающее не столько спокойствие, сколько внутреннее напряжение. На другом рисунке «Мать художника» (частная коллекция) того же времени мать Шиле значительно возвышается, ее очки и трактовка лица напоминают череп. Из переписки Эгона Шиле со своей матерью мы знаем, что их отношения были натянутыми, что в конце концов вылилось в полный разрыв отношений матери и сына. Это напряжение в их отношениях можно увидеть в упомянутых рисунках художника.
Немецкий экспрессионист Отто Дикс в своих работах изобразил целую галерею образов женщин, тела которых из-за истощения или пресыщения развратом находятся на грани распада. На его картинах изможденные и преждевременно постаревшие жительницы городских низов и проститутки изображают мир апокалипсиса после Первой мировой войны. Дикс отталкивается от традиции немецкого ренессанса, представленного художниками: Кранахом, Грюневальдом, Дюрером. Их натуралистический, суровый, демонический стиль он сочетает с современными сюжетами. В 1922–1923 гг. он зарисовывает мумии катакомб Палермо, создает серию акварелей и гравюр проституток с перерезанным горлом. То, что не изобразил Уолтер Сикерт в своей серии «Убийство в Кэмден Тауне», Отто Дикс изображает в гипертрофированных подробностях.
Свои впечатления о посещении катакомб капуцинов в Палермо описал французский писатель XIX в. Ги де Мопассан. Особенно его поразил отдельный коридор катакомб, который был посвящен только умершим девственницам. По словам писателя, смерть преобразила их, превратив в старух. Мопассан писал: «А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!» [7, т. 9, с. 45].
У Мопассана молодая девушка, умерев, преображается в старуху, у Марселя Пруста, наоборот: его бабушка помолодела, приняв смерть. Образ смерти женщины описан в романе Пруста «В поисках утраченного времени» («У Германтов») и в книге Ролана Барта «Camera lucida». Между этими книгами есть некоторая связь. Пруст в романе «У Германтов» описал смерть бабушки главного героя романа. На Пруста ссылается и Ролан Барт в эссе «Camera lucida», рассуждая о фотографии и смерти. Работа Барта о философии фотографии – это отголосок траура по его матери, умершей в 1977 г. Он пытается воскресить в памяти любимое лицо.
Подлинный образ он нашел только на фотографии, где ей было 5 лет. Пруст, описывая посмертный облик бабушки Марселя (главного героя романа), замечает, что ее лицо помолодело, «…уже не было ни морщин, ни складок, ни отеков, ни припухлостей, ни впадин – ни одного из следов, которые в течение многих лет оставляло после себя страдание». Заканчивает он описание такими словами: «Смерть, словно средневековый ваятель, простерла ее на ложе скорби в обличье молодой девушки» [8, с. 393]. Это перекликается с восприятием Барта, где он видит на фотографии свою мать-ребенка: «Значит, я терял ее дважды: в ее уходе из жизни и в ее первом фото, ставшем для меня последним; однако в последнем случае все менялось местами, и я наконец обретал ее такой, какой она есть в себе…» [9, с. 90].
Смешение смерти и жизни, юности и старости отразилось в фотографии Томаса Хепкера, которую он сделал в психиатрической больнице Гамбурга в 1964 г. Мы видим старую женщину, обнимающую куклу-младенца, некий признак «впадающих в детство» старух. Примерно в 1856 г. похожую фотографию пожилой женщины с куклой (также пациентки клиники для душевнобольных) сделал британский врач и фотограф-любитель Хью Уэлч Даймонд. Под влиянием физиогномики он изучал лица своих пациентов, страдающих психическими заболеваниями. Образ ребенка-куклы у Хепкера и Даймонда, ребенка-матери у Барта, девушки у Пруста – это все один символ перевоплощения души, легко вписывающийся в традицию византийской иконописи, где душу, покинувшую тело и переносимую ангелами в чистилище, изображают в виде ребенка. Этот символ можно увидеть и в «Похоронах графа Оргаса» Эль Греко.
Образ старости в стареющей культуре неисчерпаем. Те примеры, которые были рассмотрены в статье, лишь подтверждают разнообразие и неординарность, порой противоречивость репрезентации смерти, материнства, старости. Амбивалентность органически свойственна символу Вечной Женственности: «Мать – это Жизнь и Мать – это Смерть» [10, т. 1, с. 304].
Образы старости изменялись по мере изменения самосознания культуры: от vanitas до католического торжественного культа смерти, от протестантского мрачного парадного портрета регентш до классицизма и романтического представления смерти, от эротизации смерти, стремления к саморазрушению до полного трагизма и натурализма в изображении смерти и старости и до размышлений о вечной жизни и преодолении смерти в культуре конца XIX – начала ХХ в.
Ссылки:
-
1. Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения. СПб., 2009.
-
2. Чехов А.П. Собрание сочинений. М., 1985.
-
3. Брехт Б. Сто стихотворений. М., 2010.
-
4. Бенн Г. Сборник стихотворений. СПб., 1997.
-
5. Бунин И.А. Собрание сочинений. М., 1988.
-
6. Хайнади З. Чувственное искушение слов // Вопросы литературы. 2009. № 1.
-
7. Мопассан Ги де. Полное собрание сочинений. М., 1958.
-
8. Пруст М. У Германтов. М., 2008.
-
9. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 2013.
-
10. Бовуар С. де. Второй пол. М., 1997.
Список литературы «Смерть женщины» в литературе и искусстве XIX-XX вв
- Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения. СПб., 2009.
- Чехов А.П. Собрание сочинений. М., 1985.
- Брехт Б. Сто стихотворений. М., 2010.
- Бенн Г. Сборник стихотворений. СПб., 1997.
- Бунин И.А. Собрание сочинений. М., 1988.
- Хайнади З. Чувственное искушение слов//Вопросы литературы. 2009. № 1.
- Мопассан Ги де. Полное собрание сочинений. М., 1958.
- Пруст М. У Германтов. М., 2008.
- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 2013.
- Бовуар С. де. Второй пол. М., 1997.