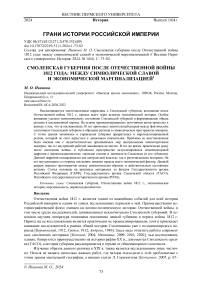Смоленская губерния после отечественной войны 1812 года: между символической славой и экономической маргинализацией
Автор: Иванова М.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Грани истории Российской империи
Статья в выпуске: 1 (64), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются многочисленные нарративы о Смоленской губернии, возникшие после Отечественной войны 1812 г., прежде всего через аспекты экономической истории. Особое внимание уделено экономическому состоянию Смоленской губерний и формированию образа региона в послевоенный период. На основе проанализированных источников автор приходит к выводу о том, что за послевоенные 30 лет произошел значительный разрыв между фактическим состоянием Смоленской губернии и образами региона в символическом пространстве империи. С точки зрения экономики и управления губерния превратилась в маргинализированный регион, который не смог вернуться к довоенным показателям. Проблема ее восстановления была связана как с недостаточностью принимаемых мер центральными министерствами империи, так и с внутренней работой чиновников на местах. В это же время, практически сразу после окончания войны, в публичном пространстве актуализировался компенсаторный нарратив о верноподданничестве, героизме смолян и значимости Смоленска (и его губернии). Данный нарратив поддерживался как центральной властью, так и региональными акторами. На его актуализацию со стороны последних повлиял прежде всего экономический фактор. Данный разрыв породил противоречие между символическим образом и действительным состоянием региона. Статья основана на архивных материалах из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Смоленской области (ГАСО), Российского государственного исторического архива (РГИА).
Смоленская губерния, отечественная война 1812 г, экономическая история, маргинальность, верноподданничество
Короткий адрес: https://sciup.org/147246525
IDR: 147246525 | УДК: 94(47),1812,:271.2(470.332)(09) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-1-73-82
Текст научной статьи Смоленская губерния после отечественной войны 1812 года: между символической славой и экономической маргинализацией
Отечественная война 1812 г. является одним из важнейших событий для всей истории Российской империи и одним из самых исследованных периодов в ней. Преимущественно историографический фокус смещен на военно-политическую историю Отечественной войны, в том числе среди исследователей, занимающихся исключительно Смоленской губернией. В основном научная литература посвящена положению данной губернии в период войны 1812 г. Период же ее восстановления является практически не проанализированным, хотя и привлекает внимание исследователей в рамках общей истории Смоленщины уже с позднеимперского периода [ Вороновский , 1912; Грачев , 1912; Андреев , 1940]. Здесь надо отметить работы современных смоленских историков [ Кононов , 2004; Никитина , 2009, 2010, 2020], чьи исследования, однако, базируются преимущественно на историографии ХХ в., документах Смоленского архива (ГАСО), а история губернии рассматривается в отрыве от общеимперского контекста.
Изучение образов данного региона в XIX в. также является исследованным лишь частично. Нельзя не назвать несколько важных работ, где авторы подходили к этой проблематике с точки зрения ментальной географии, а именно статьи Л. Горизонтова [ Gorizontov , 2007, p. 67–
93; Горизонтов , 2011, с. 34–40], в которых он в том числе анализировал восприятие Смоленска в войну 1812 г., а также книгу С. Биленки, где он исследовал политическое воображение России, Польши и Украины через оптику ментальной географии и во многом следует за положениями Л. Горизонтова [ Bilenky , 2012, p. 44–70]. Неоднократно исследователи обращали внимание на западные регионы Российской империи в рамках методологии ментальной географии под иным углом – с позиции видения этих территорий за рубежом. Прежде всего значительно было исследовано восприятие этих земель Наполеоном и французским обществом в начале XIX в. [Наполеоновские войны на ментальных картах Европы…, 2011; Ададуров , 2018; Постникова , 2020].
Смоленская губерния имеет долгую и сложную историю в составе российского государства. Этот регион традиционно входил в состав великорусских губерний. Формально она становится внутренней губернией после первого раздела Речи Посполитой (1772). Однако, с одной стороны, эта провинция продолжала оставаться пограничной губернией между «исконно русскими» и новоприобретенными территориями. С другой стороны, внутренняя структура, региональная история и идентичность создавали иной нарратив об этом регионе (например, память о том, что Смоленщина в XVII в. была частью Речи Посполитой). Одним из главных исторических событий, повлиявших на положение и восприятие Смоленской губернии, стала война 1812 г., последствия которой привели к опустошению региона.
В статье выдвигается тезис о том, что за послевоенные 30 лет Смоленская губерния не только не смогла восстановиться и вернуться к довоенным показателям, но и превратилась в маргинализированный регион с точки зрения экономики и управления. Вместе с этим в обществе и публичном пространстве империи актуализировался дискурс о значимости Смоленска (и его губернии) и возник компенсаторный нарратив о верноподданничестве местных жителей и их героизме. Данный нарратив поддерживался как центральной властью, так и региональными акторами.
Термин «маргинализация» в статье понимается широко. В данном контексте и применительно к территории, а не к группе индивидов важен такой аспект, как управляемость , в который включается ряд показателей: делопроизводство (скорость и эффективность местной бюрократии), экономика (включая уровень жизни населения), преступность. Вопрос об уровне преступности в данный период можно оставить открытым и, как важно отметить, малоизученным [ Миронов , 2013, с. 78–90]. Имеющиеся материалы позволяют предположить, что положение с преступностью также отличалось от типичного для империи, однако для полноценного заключения должен быть привлечен иной корпус источников.
Общие положения экономического состоянии Смоленской губернии, 1812–1840 гг.
Смоленская губерния, пожертвовавшая более всех других во время прошедшей войны, по справедливости обращает на себя особенное Мое внимание.
Александр I А. А. Аракчееву, 20 сентября 1816 г. // РГИА. Ф. 1287. Оп. 3. Д. 34. Л. 204).
Известно, что в ходе Отечественной войны 1812 г. от «нашествия неприятеля» пострадало 12 губерний Российской империи. В особенности тяжелым оказалось положение Смоленской губернии (от военных действий пострадало 8 из 12 уездов), восстановление губернии затянулось на десятилетия. Первые послевоенные годы (1812–1818) являются периодом наиболее интенсивной работы по устранению разрушений от войны. До конца 1816 г. многие послабления и помощь делались стихийно (в т.ч. после подношений императору, ходатайств в министерства и проч.) и решались, можно сказать, в ручном режиме2. Сбор и обобщение информации об убытках требовал времени (хотя попытки подсчитать убытки начались сразу же после изгнания врага за пределы губернии [ Кононов , 2004, с. 182–184]), а также завершения военной кампании. В первую очередь выяснилось, что, по результатам подушной ревизии 1815 г., убыль населения в Смоленской губернии составила более 60 тыс. человек (61,893 души) по сравнению с данными ревизии 1811 г. (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2609. Л. 12 об.).
Хотя степень разорения Смоленской губернии была «очевидна» и «весьма известна» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1498. Л. 1), на степень восстановления региона в Петербурге смотрели по-разному. Вероятно, ожидалось, что выделяемые с конца 1812 г. льготы, пособия и другая помощь от государства населению губернии должны были позволить быстро восстановить ее. Уже в 1816 г. иногда встречаются достаточно положительные оценки и негодование относительно новых запрашиваемых послаблений3.
К середине 1816 г. после многочисленных запросов и ходатайств до императора Александра I стали доходить сведения о крайней бедности крестьян и жителей Смоленской губернии. За этим последовал очередной сбор информации о состоянии губернии, о том, какие территории «не пришли еще в первобытное состояние» и почему (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. 1816 г. Л. 175, 205–209). Как сообщал смоленский градской глава И. Филимонов, по итогам войны в губернском городе было разрушено 1401 дом, 317 лавок и до 200 разных заводов. При этом к весне 1816 г. было устроено только около 300 домов обывателей (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1669).
Только с конца 1816 г. вопросами разрушенных губерний начали заниматься более систематично: были созданы временные ликвидационные комиссии, 14 декабря 1816 г. учредили Особый комитет для рассмотрения убытков и недоимок двенадцати пострадавших губерний (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2609. Л. 2). Особенно внимательно комитет рассматривал дела четырех губерний: Московской, Смоленской, Калужской и Витебской.
По итогам работы комитета было установлено, что общая степень разорения от неприятельского нашествия обывателям Смоленской губернии по городам и уездам составляет более 74 млн руб. (74 342 433 руб. 89 коп.) (Там же. Л. 13). Единовременного вливания полной суммы для покрытия убытков государство не могло себе позволить ( Печерин , 1898) [ Марней , 2009; Лукоянов , 2020, с. 10]. Общий убыток только по одной Смоленской губернии был равен около 1/6 от общих доходов государства за 1816 г. Комитет постановил все оставшиеся недоимки в податях до 1815 г. на мещанах, цеховых, крестьянах, дворовых людях, а также с купцов процентные недоимки с объявленных капиталов рассрочить на 10 лет «взысканием, освободя только от пени за невзнос в срок недоимок» (такой срок был установлен только для Смоленской губернии) (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2609. Л. 25). Многие суммы, данные в рассрочку по этому решению (и другим более поздним рассрочкам), так и не были выплачены обратно и были прощены много позже по Всемилостивейшему Манифесту 1841 г. (в т.ч. часть денежных и рекрутских недоимок; некоторых уездов Смоленской губернии также коснулось сложение половины оклада податей в связи с неурожаем хлеба 1840 г.) (ПСЗРИ, 1841, 16 апреля, № 14460).
С 1812 г. государство выделяло Смоленской губернии и ее городам ссуды, пособия населению, выдавало хлеб и зерновые для засева; в 1818 г. были подтверждены торговые права смолян ( Мурзакевич , 1828, с. 147–150). Государством прощались денежные недоимки по губернии, а также недоимки по рекрутским повинностям. Большая часть выделяемых сумм должна была удовлетворять нужды отдельных просителей, и лишь малая часть была направлена на системное и централизованное восстановление городов, уездов и промышленности. Эту проблему отмечал граф Е. Ф. Канкрин в записке А. А. Закревскому в конце 1829 г., где предлагал устроить в губернии кирпичный завод, а также лесные и дровяные магазины, чтобы у населения были ресурсы для строительства (РГИА. Ф. 1287. Оп. 3. Д. 20). Как пишет Н. Никитина, в послевоенные годы местным жителям приходилась разбирать крепостную стену в Смоленске из-за нехватки материалов [ Никитина , 2020, с. 42–43]. Е. Ф. Канкрин заключал, что упадок Смоленска, помимо вражеского разорения, исходит от изменения торговых обстоятельств, а также необходимости создания новых способов промышленности (РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 844. Л. 26).
В 1823 г. Смоленская и Калужская губернии вошли в состав генерал-губернаторства (ранее состоявшего из Могилевской и Витебской губерний). В системе управления губернией появилась новая фигура – генерал-губернатор, который стал еще одной стороной, контролировавшей дела в Смоленской губернии, в том числе исполнение указов из центра. Генерал-губернатором новообразованной административной единицы назначили князя Николая Хованского.
В период 1823–1824 гг. он выявил проблемы практически во всех сферах управления губернией: денежные недоимки, рекрутский недобор4, плохое состояние дорог5, бедный быт кре- стьян, бездействие полиции, запоздалое препровождение какой-либо запрашиваемой информации, неточность в поставляемых данных, разбои на дорогах, уклонение дворян от обязанностей (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. 1823 г.).
Хотя, как пишет В. Кононов, жалобы на медленное делопроизводство в губернии отмечались и до войны [ Кононов , 2004, с. 179], с 1812 г. оно стало малофункциональным и не было значительно улучшено даже к концу 1820-х гг. Во всеподданнейшем отчете генерал-губернатор Н. Хованский отмечал «поразительное различие в четырех губерниях по производству дел» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5093. Л. 2). По отчету этого года видно, что в Смоленской губернии из 9456 осталось 3645 нерешенных дел. Для сравнения: в Могилевской губернии в тот же период с 1 января 1827 г. по 1 апреля 1828 г. из 20 476 дел осталось только 348, в Витебской ‒ из 9846 дел осталось 252, а в Калужской ‒ из 4436 не было решено 580 дел (Там же. Л. 3). Из-за того, что производство дел в Смоленской губернии не улучшалось, в 1828 г. император дал дозволение генерал-губернатору «подвергать начально временному воинскому аресту» чиновников, что не исполняют свои обязанности, вместо назначения им денежных штрафов (Там же. Л. 27–28 об.).
В 1829 г. произошла очередная смена гражданского губернатора в Смоленской губернии. Новый губернатор Н. И. Хмельницкий приступил к исполнению обязанностей более деятельно, чем его предшественник И. С. Храповицкий, при правлении которого, как считает В. А. Кононов, «в жизни губернии почти ничего не изменилось, а ее экономическое состояние даже ухудшилось» [ Кононов , 2004, с. 200]. Вступив на должность губернатора, Н. Хмельницкий поспешил отразить бедственное положение губернии в своем всеподданнейшем отчете, который обратил на себя немедленное внимание императора Николая I (РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 844. Л. 1). Также надо отметить, что в 1826 г. Смоленск вновь пострадал – от пожара, что не способствовало и без того медленному восстановлению города. Н. Хмельницкий подчеркивал, что из-за бедности как самого города, так и жителей Смоленск совсем не устроен: площади и улицы не вымощены; множество обгорелых домов, которые не только портят вид, но и представляют собой угрозу; нет зимних будок для городской стражи и не хватает полиции (Там же. Л. 4–4 об.).
По результатам рассмотрения этого отчета, с 1830 г. Смоленск получил новые пособия: на 10 лет жители города были освобождены от воинских повинностей; на 5 лет были дарованы налоговые льготы купцам и мещанам; сложились недоимки на 100 тыс. руб. Государство приняло на себя все расходы на содержание городской полиции. Была выделена ссуда в 1 млн руб. на восстановление города с рассрочкой на 15 лет (Там же). Пособие, оказанное Смоленску в 1829–1830 гг., не стало последним, вопреки расхожему мнению в историографии (см., напр., [ Кононов , 2004; Никитина , 2009; Александров , Иванов , Иванова , 2013]). Часть льгот и пособий были повторены вновь еще на 5 лет уже в 1839 г., так как доходы губернского центра практически не увеличились за 10 лет (РГИА. Ф. 1287. Оп. 31. Д. 136).
Помимо прочего, в этот период в регионе обострились другие проблемы: было выявлено много случаев «пристанодержательства», а также нелегального корчемства на приграничных территориях с белорусскими губерниями и связанные с этим разбои. Первая проблема возникла после неурожайных годов в начале 1820-х гг., из-за чего крестьяне из Могилевской и Витебской губерний отправились на работы в Смоленскую, избегая голодной смерти. Труд таких крестьян был дешев, а потребность в рабочих руках велика. Потому, несмотря на все строжайшие предписания о необходимости выдачи беглых крестьян и отправки их обратно, это приносило мало результатов; белорусские крестьяне продолжали жить и работать в губернии (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. 1823 г.; Д. 10. 1823 г.). В 1829 г. эта проблема попала под контроль III отделения. В феврале того же года А. Х. Бенкендорфу докладывали, что «ни одна губерния не имеет у себя столько беглых, сколько Смоленская» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 4. Д. 89. Л. 3), а с марта по июнь уже было поймано 548 беглых крестьян (Там же. Л. 18 об.). Проблема с корчемниками также не была разрешена даже к концу 1840-х гг. (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. 1816 г. Л. 353–354; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 169. Д. 216).
Таким образом, с точки зрения управляемости региона Смоленская губерния в послевоенный период фактически маргинализировалась. Ее экономическое положение не было значительно поправлено к концу 1830-х гг., хотя делопроизводство в губернии немного улучшилось, при том что обычно послевоенные экономики сравнительно быстро возвращаются к довоенным показателям.
Однако неудачи в восстановлении региона нельзя объяснять исключительно недостаточностью мер из центра. Еще одной видимой проблемой были злоупотребления на местах и лихоимства (РГИА. Ф. 1287. Оп. 3. Д. 33. Л. 165). Первые злоупотребления вскрылись сразу же после войны в 1813–1816 гг. и заключались в махинациях с выдачей овса на засев и денег суммами меньшими, чем было указано в отчетах. Это дело было на контроле со стороны министров внутренних дел и юстиции, главнокомандующего в Санкт-Петербурге, Правительствующего сената и Комитета министров. Несмотря на требования Комитета министров о предании виновных строжайшему суду, по сути, были взысканы только деньги. 1 июля 1817 г. А. И. Ри-бопьер6 докладывал С. К. Вязмитинову, что «дело о сем уже решено Смоленской уголовной палатой, и к крайнему удивлению никто не найден виновным в злоупотреблении, но многие обвинены в недосмотрительности» (РГИА. Ф. 1287. Оп. 3. Д. 33. Л. 197–198).
Смоленская губерния в символическом пространстве империи
1812-й год – окончательно убил материальную славу Смоленска, дав ему взамен вечную славу непоколебимой, беспредельной преданности престолу и отчеству.
Никифоров, 1859, с. 89.
Оценить состояние Смоленской губернии государи, великие князья и чиновники могли лично, проезжая через губернию, а не только из письменных донесений, ведь через нее лежал путь на запад. И Александр I, и Николай I регулярно проезжали через губернию, однако в основном движения по оказанию какой-либо помощи начинались только после ряда прошений от населения или губернатора. Понесенные в ходе войны потери и разрушения потребовали обращений жителей и местной администрации за помощью к правительству. Поэтому так важно в данном контексте смотреть не только на то, какие указы исходили из центра, но и на инициативу из региона.
Скорее всего, множество прошений не сохранились. Однако их должно было быть немало, судя по указам, издаваемым о новых вспоможениях и пособиям губерниям после обращений к императору (не только для помощи Смоленской губернии). Ходатайствовали о помощи помещики, купцы и крестьяне (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2664. Л. 1; Ф. 560. Оп. 11. Д. 117. Л. 3 об.). Е. Болтунова пишет, что сразу после войны «смоленские власти получали без преувеличения тысячи просьб о помощи от жителей. Судя по сохранившимся спискам, в 1812–1816 гг. губернатор К. И. Аш зафиксировал 2866 подобных прошений» [ Болтунова , 2022, с. 311]. Более тысячи прошений от жителей губернии сохранилось в фонде «Сословия попечителей призрения разоренных от неприятеля в 1812 году» (РГИА. Ф. 1309).
Активную деятельность вел градской глава Смоленска Иван Филимонов. Он не раз обращался к гражданскому губернатору, в различные министерства или к отдельным лицам в Петербурге и даже к императору, испрашивая милосердия и помощи (не только для Смоленска, но и для Гжатска (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3203. Л. 10–11)), напоминая о проблемах и нуждах населения. Упоминал он не только сухие цифры и фактическую суть проблем, но также артикулировал детали символического порядка (Там же. Л. 4–4 об.; ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. 1823 г. Л. 569–570).
Помимо прочего, И. Филимонову принадлежит инициатива о возвращении двух ярмарок из белорусских губерний в Смоленск (или, по крайней мере, была им сначала озвучена на заседании городской думы (Город Смоленск. Возвращение к жизни…, 2012, c. 45–46, 48–49), а позже направлена губернатору и в Петербург). Эта инициатива должна была стимулировать торговлю в городе и губернии, но в записках городского главы приводились не только доводы исключительно о коммерческой выгоде (хотя цель этого перемещения должна быть именно такой). Филимонов обращается к истории города, где приводит сведения о торговых привилегиях, данных еще польским королем Сигизмундом III, которые подтверждали потом русские правители. Он также находит и возможную причину потери ярмарок, обвиняя в этом поляков и евреев (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2136. Л. 3 об.).
В прошениях и ходатайствах из губернии запрашивались различные послабления, экономические льготы необходимые для восстановления. Важной составляющей таких обращений становится подчеркивание сильных разрушений, жертв, которые пришлось принести во время войны, которые, однако делались исключительно из любви к Отечеству. Смоленские купцы даже в ходатайствах на получение медалей, помимо сухих цифр о том, сколько было пожертвовано из имущества и средств, часто встраивали это в свой нарратив упоминания о своей верности престолу и стране (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. 1817–1821 г.). Кроме местного населения, также гражданские губернаторы и генерал-губернатор Н. Хованский периодически делали неформальные отступления от практической информации в отчетах и записках, когда речь касалась очередной просьбы о помощи губернии (РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 844. Л. 4–4 об., 19). Они подчеркивали древность и преданность Смоленска и губернии Отечеству.
Попытки осмысления произошедшей войны в публичном пространстве империи начались сразу после ее окончания. В публицистике появлялись стихи и оды императору, полководцам, героям войны 1812 г., первые аналитические статьи о ходе войны, отдельных битв, где, конечно, неизменно фигурировала и Смоленская губерния. Практически сразу Смоленск был наделен свойствами главного защитника Москвы и России (Вестник Европы. 1813. Т. 68, № 7– 8, с. 284; 1817. Т. 93, № 9, с. 66–71). Жители Смоленской губернии сами сообщали о своих нуждах. Например, на страницах журналов «Вестник Европы» и «Отечественные записки» встречаются различные обращения или записки об отдельных лицах Смоленского края, испрашивающих о помощи, или сводки благотворительности, оказываемой некоторым жителям региона (Вестник Европы. 1816. Т. 85, № 4, с. 313–314; 1817. Т. 95, № 20, с. 317; 1820. Т. 111, № 9, с. 78–80; 1821. Т. 118, № 10, с. 159–160; 1824. Т. 139, № 22, с. 158). Поэтому о проблемах Смоленской губернии знали не только в центральных ведомствах империи.
Вместе с тем в журналах публиковались заметки о подвигах и отваге, проявленной смолянами во время войны. Примечательна статья, опубликованная в «Отечественных записках» в 1826 г., за авторством А. Елоховского7 «Преданность к своим Государям и Отечеству жителей Смоленской губернии», где он ведет рассказ о подвигах и доблести смоленской земли начиная с XV в., ее связи с Москвой и Россией. Через всю статью проходит подчеркнутый нарратив о верности престолу ( Елоховский , 1826, с. 398–465).
Дискурс о героизме и верности активно поддерживался смоленским дворянством. Например, благодаря тому, что в 1837 г. генерал-губернатор П. Н. Дьяков запросил у Смоленского губернатора сведения о губернии периода 1812 г., у нас есть возможность узнать, что о себе сообщала местная элита и как хотела представить свою роль в тот период. В опубликованных журналом «Смоленская старина» записках в первую очередь повсеместно отмечаются заслуги и преданность дворянства и остального населения губернии престолу, их отвага, жертвенность и бескорыстие. Подчеркиваются ключевая роль смоленского дворянства и населения, их участие в военных действиях (Смоленская старина, 1912, с. 321–325; Смоленская старина, 1916, с. 346).
Примечателен прием делегации от смоленского дворянства Николаем I в Зимнем дворце (!), который состоялся 17 мая 1847 г. На встрече делегация выразила императору «чувства верноподданнической признательности целой губернии за дарованные дворянству права и преимущества и за оказанные нам, смолянам, в последнее трудное время льготы и пособия» (ГА-СО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 32. 1847 г. Л. 6 об.). На что Николай I, если верить записке, отвечал: «Я смолян знаю за верных слуг Отечеству: на поприще военном и гражданском они всегда отличались усердием и знанием; а дома благоустройством. Потому изъявил желание принять вас, во-первых, чтобы выразить в лице вашем Смоленскому дворянству, сколько я люблю оное и уважаю за его чувства и рыцарские правила» (Там же. Л. 6 об.–7). Вероятно, такие слова могли быть правдивы. В 1853 г. Николай I, назначая нового генерал-губернатора для Витебской, Могилевской и Смоленской губерний, писал П. Н. Игнатьеву: «Тебе вверяю край несчастный, край к управлению трудный. Он по сию пору не имел настоящего хозяина», ‒ и отметил, что «Смо- ленское дворянство отличается особенной преданностию и усердием» (Николай I: личность и эпоха…, 2007, с. 384–385).
Заключение
Итак, согласно проанализированным источникам, важно отметить, что за послевоенные (Отечественная война 1812 г.) 30 лет Смоленская губерния не смогла вернуться к довоенным показателям в экономике. Одним из важных факторов неуспешности восстановления Смоленской губернии является то, что после разрушительной войны ее промышленность не была восстановлена в полной мере, а точечные вливания средств и льготы населению не смогли стимулировать полноценно экономику региона. Не менее важна для успешности восстановления в послевоенное время и скорость разрешения тех или иных проблем. На решения по вполне справедливым запросам от губернаторов или градских глав Смоленской губернии тратились месяцы, они тщательно рассматривались министерствами финансов, внутренних дел и даже Кабинетом министров. Как показывает практика, нужды региона не всегда оставляли удовлетворенными [ Болтунова , 2022, с. 109–110].
Вместе с этим начал развиваться компенсаторный нарратив о регионе. Во-первых, необходимо отметить, что после 1812 г. упрочился образ Смоленского региона именно как исконно русского. Предполагаю, что на актуализацию этого нарратива со стороны региональных акторов повлиял прежде всего экономический фактор. Демонстрация инаковости, которая была до войны или в конце XVIII в., не смогла бы удовлетворить практические нужды региона. Кроме того, неравное распространение финансовых потоков по регионам империи, а именно в регионе бывших польских земель и Смоленской губернии, могло также являться одним из факторов дистанцирования от польского наследия. Не менее важен здесь травмирующий опыт войны, который также влиял на этот процесс.
Во-вторых, данный нарратив также включал идею о верноподданничестве жителей губернии и Смоленской земли в целом. Острая потребность в государственной помощи требовала от региональных акторов активной коммуникации с имперским центром. В прошениях и докладах, кроме фактической информации о разрушениях и состоянии губернии, уезда или города, часто встречаются символические аспекты о преданности и древности смоленской земли. Нарратив о героизме и верности престолу активно поддерживался как региональными элитами, так и со стороны акторов центральной власти, а также в публичном пространстве империи.
Таким образом, в указанный период происходит разрыв между символическим («щит России», древний город) – положительным – образом Смоленска и фактическим положением губернии (разрушения, беспорядки, неуправляемость) – как бедного и разрушенного региона.
Список литературы Смоленская губерния после отечественной войны 1812 года: между символической славой и экономической маргинализацией
- Ададуров В.В. «Наполеошда» на Сходi Свропи: Уявлення, проекти та дiяльнiсть уряду Франци щодо швденно-захвдних окраш Росшсько! iмперil на почтку XIX ст. Львiв, 2018. 624 с.
- Александров С.В., Иванов А.М., Иванова Е.А. Управление и хозяйственное развитие Смоленского региона: историко-экономические исследования / под ред. К.В. Купченко. Новосибирск: Сибир. ассоциация консультантов (СибАК), 2013. 284 с.
- Андреев П.Г. Народная война в Смоленской губернии в 1812 году. Смоленск: Смолгиз, 1940. 190 с.
- Болтунова Е.М. Последний польский король: коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII - начала XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 560 с.
- Вороновский В.М. Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской губернии. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912.
- Горизонтов Л.Е. Смоленский рубеж в войне 1812 года и ментальные карты Российской империи // Studia ^егпайогаНа: материалы междунар. науч. конф. «Западный регион России в международных отношениях XVИ-XX вв.», Брянск, 22-24 июня 2011 года / Брян. гос. ун-т. Брянск, 2011. С. 34-40.
- Горская Н.И. Местная администрация и «высочайшие путешествия» 1830-1850-х гг. в Смоленской губернии // Российская история. 2020. № 1. С. 26-36.
- Грачев В.И. Смоленск и его губерния в 1812 году: юбил. изд. (1812-1912). Смоленск: Тип. П.А. Силина, 1912. 293 с.
- Кононов В.А. Смоленские губернаторы. 1711-1917. Смоленск: Маджента, 2004. 398 с.
- Лукоянов И.В. Егор Францевич Канкрин. Биографический очерк // Министры финансов императорской России Е.Ф. Канкрин, М.Х. Рейтерн, Н.Х Бунге / сост. И.В. Лукоянов. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2020. С. 7-17.
- Марней Л.П. Д.А. Гурьев и финансовая политика России в XIX в. М.: Индрик, 2009. 272 с.
- Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. Т. 2. 583 с.
- Наполеоновские войны на ментальных картах Европы: историческое сознание и литературные мифы: сб. ст. по материалам междунар. конф. М.: Ключ-С, 2011. 639 с.
- Никитина Н.В. Восстановление учреждений образования в Смоленской губернии после Отечественной войны 1812 года // 1812 год: война и мир: материалы II Всерос. науч. конф. Смоленск, 2010. С. 123-133.
- Никитина Н.В. К вопросу о восстановлении хозяйства Смоленской губернии после Отечественной войны 1812 года // 1812 год: война и мир: материалы всерос. науч. конф. Смоленск: Свиток, 2009. С.99-106.
- Никитина Н.В. Повседневная жизнь жителей Смоленска в первые годы после Отечественной войны 1812 года // 1812 год: война и мир: сб. ст. Смоленск: Свиток, 2020. С. 38-46.
- Постникова А.А. От Немана до Смоленска: начало русской кампании в представлении солдат Великой армии Наполеона // Диалог со временем. 2020. Вып. 72. С. 271-279.
- Bilenky S. Romantic Nationalism in Eastern Europe. Russian, Polish, and Ukrainian Political Imaginations. Stanford University Press. 2012. 408 p.
- Gorizontov L. The "Great Circle" of Interior Russia: Representations of the Imperial Center in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930 / eds. by J. Burbank, M. von Hagen, and A. Remnev. Indiana University Press. 2007. P. 67-93.