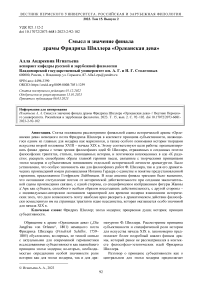Смысл и значение финала драмы Фридриха Шиллера "Орлеанская дева"
Автор: Игнатьева А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению финальной сцены исторической драмы «Орлеанская дева» немецкого поэта Фридриха Шиллера в контексте принципа субъективности, являющегося одним из главных для модерна как маркоэпохи, а также особого понимания истории творцами искусства второй половины XVIII - начала XIX в. Этому соответствуют цели работы: проанализировать финал драмы с точки зрения философских идей Ф. Шиллера, отраженных в созданных поэтом философских трактатах, статьях, посвященных истории, и поэтически воплощенных в оде «К радости»; раскрыть своеобразие образа главной героини пьесы, связанное с творческими принципами эпохи модерна и субъективным пониманием отдельной исторической личности драматургом. Было установлено, что особую значимость как для философских работ Ф. Шиллера, так и для его драматических произведений имели размышления Иоганна Гердера о единстве и понятие предустановленной гармонии, предложенное Готфридом Лейбницем. В ходе анализа финала трагедии было выяснено, что осознанное отступление поэтом от исторической действительности при создании заключительной сцены произведения связано, с одной стороны, со специфическим изображением фигуры Жанны д᾿Арк как субъекта, способного особым образом воссоздавать действительность, с другой стороны - с индивидуально-авторским осознанием характерной для времени модерна взаимосвязи исторических эпох, что дало возможность поэту наиболее ярко раскрыть в драматическом действии философски осмысленную им на страницах трактатов идею всеединства, которая оказывается особо значимой для начала XIX в.
Фридрих шиллер, эпоха модерна, прекрасная душа, история, принцип субъективности
Короткий адрес: https://sciup.org/147241897
IDR: 147241897 | УДК: 821.112-2 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-2-92-102
Текст научной статьи Смысл и значение финала драмы Фридриха Шиллера "Орлеанская дева"
Обращение к драме «Орлеанская дева» („Die Jungfrau von Orleans“, 1801) немецкого поэта Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller, 1759– 1805) обусловлено, во-первых, ее тесной связью с актуальными для современной германистики исследованиями субъективности как важнейшего принципа эпохи модерна; во-вторых, необходимостью определения особой значимости роли истории как для эпохи модерна, так и для дра- матургии Ф. Шиллера. Рассмотрение принципа субъективности и специфической роли истории для искусства начала XIX в. закономерно предполагает более подробный анализ финала драмы, который ранее не рассматривался в контексте философско-эстетических идей Фридриха Шиллера.
Разговор о принципе субъективности как о центральном для эпохи модерна предполагает
следующее уточнение: если речь идет о немецкой литературе, то учеными принято говорить о «большом» и «малом» модерне. Так, например, современный исследователь немецкой литературы Сильвио Вьетта ( Silvio Vietta ) отмечает, что истоком модерна как макроэпохи является вторая треть XVII в. Именно в этот период, благодаря тому, что личность оказывается в центре внимания философов, начинает формироваться принцип субъективности. В этом отношении особо значимыми являются работы французского философа Рене Декарта ( Renè Descartes , 1596– 1650). Здесь важна центральная мысль ученого: “Cogito ergo sum“ [Декарт 1989: 269]. Декарт выдвигает на передний план мыслящий субъект, главенствующая роль которого глубоко повлияла на развитие философии, а затем и литературы.
Совершенная Декартом революция в философии, как определяет ее С. Вьетта, приводит к подобному перевороту и в литературе, который характеризуется выдвижением на передний план мыслящего субъекта. В работе “Die literarische Moderne“ (1992), говоря о личности модерна в литературе, Сильвио Вьетта отмечает, что для нее характерны “die reflexive Selbstermächtigung“ (рефлексивное самоутверждение) и “Selbstausle-gung als rationalistisch-rechnendes Denken“ (интерпретация себя как рационально-расчетливое мышление) [Vietta 1992: 27]. Из этого следует, что личность эпохи модерна сфокусирована на самой себе, на собственном опыте познания действительности. А. Г. Аствацатуров (1945–2015), говоря об образе человека модерна на примере Карла Рокайроля – героя романа «Титан» (“Titan”, 1803) Ж. П. Рихтера ( Johann Paul Friedrich Richter , 1763–1825), отмечает, что рефлексивность – «отличительное свойство модернистской психики» [Аствацатуров 2020: 38]. Обращение личности к себе, с которым связано познание реальности сквозь призму собственных убеждений и представлений, привело писателей к постановке вопросов свободы личности, ее гармонии, а также взаимоотношения субъекта и мира. Эти вопросы оказываются крайне важными как для творчества Фридриха Шиллера в целом, так и для драмы «Орлеанская дева» в частности.
Что касается особой роли истории в эпоху модерна, то для наиболее четкого ее определения стоит обратиться к работе Ю. Хабермаса (Jürgen Habermas, 1929) «Философский дискурс о модерне» (“Der philosophische Diskurs der Moderne”). Характеризуя мир модерна, ученый делает акцент на том, что в данную эпоху границы времени оказываются как будто стертыми – «повторяется и приобретает характер непрерыв- ности процесс зарождения новой эпохи заново» [Хабермас 2003: 12]. Эта мысль может быть истолкована следующим образом: прошлое не уходит безвозвратно в небытие, оно становится частью нового времени. События не только следуют одно за другим, но и могут повторяться в несколько измененном виде, что приводит к пониманию того, что движение времени осуществляется по спирали. Таким образом, осмысление исторического процесса не как временной линии, где события, сменяя друг друга, безвозвратно исчезают, а как более сложной структуры, в которой эпизоды истории имеют свойство отображаться друг в друге, является одной из особенностей культуры модерна. Вслед за Ю. Хабермасом и С. Вьетта, российский германист А. И. Жеребин в предисловии к монографии «Человек эпохи модерна: герменевтика субъекта в немецкоязычной культуре XVIII–XX веков» (2020) отмечает, что в культуре модерна «прошлое не груз, препятствующий развитию, а предчувствие, требующее воплощения в поле современного сознания» [Жеребин, Аствацату-ров, Вольский 2020: 30]. Прошлое не уходило безвозвратно, а напрямую способствовало развитию культуры, позволяя сознанию прослеживать истоки определенных явлений и проблем, делать выводы и прогнозировать будущее. Подобным образом воспринималась и история. Предшествующие эпохи давали возможность творцам эпохи модерна, в том числе и Ф. Шиллеру, по-иному осмыслить действительность и предлагали решения возникающих проблем в современной поэту действительности.
Здесь стоит сказать о причинах того, почему поэт, создавая в начале XIX в. свою новую драму, обращается к событиям Столетней войны (1337–1453 гг.) и к личности национальной героини Франции Жанны д᾿Арк. Воплощение данного творческого замысла во многом обусловлено историческими событиями начала XIX в., связанными с развертыванием Наполеоном масштабной военной кампании в Европе, в ходе продвижения которой некоторые территории Германии оказались захвачены. Германия фактически оказалась на месте Франции XV в. Нестабильное положение собственной страны, связанное с утратой значительных частей, не могло оставить Ф. Шиллера равнодушным. Необходимо отметить, что поэт, в отличие от некоторых своих современников, не восхищался Наполеоном. Об этом свидетельствует одно из высказываний Ф. Шиллера: «Ах, если бы я^мог интересоваться им! Но нет, я не могу; этот характер мне противен, – ни одного отрадного известия нет о нем» [Шиллер 1955: 395]. Такое резкое неприя- тие поэтом французского императора связано с тем, что его успехи на полях сражений воспринимались Шиллером как постепенная утрата свободы завоеванными странами. Ф. Шиллеру как писателю времени модерна свобода и отдельной личности, и народа была очень важна. Под отсутствием «отрадных известий» о Наполеоне можно понимать то, что внешняя политика императора полностью опровергала лозунг Великой французской революции Liberté, Égalité, Fraternité (Свобода, равенство, братство). Ситуация, в которой одна страна нападает, а другая вынуждена обороняться, исключает свободу, потому что один из участников неминуемо ее лишается. В подобной ситуации невозможно равенство из-за присущей войне дисгармонии, и, как полагает Ф. Шиллер, отсутствие равенства исключает братство.
Стоит отметить, что Шиллер не был свидетелем оказавшихся фатальными для Германии попыток ее противостояния Наполеону. Однако поэт имел представления о ситуации в тех странах, которые до 1805 г. (год смерти Ф. Шиллера) были захвачены Францией, и об амбициях французского императора. Зная несовершенства государственного устройства собственной страны, поэт также довольно ясно мог предположить, с какими тяготами столкнется Германия. В связи с этим представляется возможным говорить о сражении при Йене и Ауэрштедте, произошедшем 14 октября 1806 г. и завершившемся победой Наполеона, что окончательно лишило Германию свободы. Здесь необходимо обратиться к мнению немецкого философа Г. Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831), а также немецкого военачальника и историка К. фон Клаузевица (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780–1831), которые были свидетелями указанного сражения. В письме, адресованном Ф. Нитхаммеру (Friedrich Philipp Immanuel Niethammer, 1766–1848) и написанном в день взятия Йены французами, Г. Гегель называет Наполеона «мировой душой» и говорит следующее: «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая <…> охватывает весь мир и властвует над ним» [Гегель 1971: 255]. Напрашивается вывод, что Гегель воспринимает Наполеона не как того, кто разрушает привычную действительность, а, наоборот, как того, кто делает ее целостной. Подобное отношение философа к одной из ярчайших личностей его времени, которая одновременно с этим фактически лишает свободы родную для ученого Германию, может показаться несколько нетипичным. Однако император, которого Гегель определяет как «мировую душу», воспринимается способным объединить мир и изменить его. Такая оценка Наполеона прямо противоположна мнению Ф. Шиллера. Для поэта император связан с разрушением, отсутствием свободы и усилением дисгармонии мира.
Помимо внешнеполитических проблем Германии, связанных с развернутой Францией военной кампанией, Ф. Шиллер не мог не отмечать несовершенство государственного устройства родной страны, части которой являлись отдельными княжествами, лишь формально подчинявшимися королю. Такая организация государства, части которого являются разобщенными, сыграла на руку Наполеону, доказательством чему является упомянутое сражение при Йене и Ауэрштедте. После него адъютант К. фон Клаузевиц отметил, что Германия «погибла из-за своих форм государственного устройства» [Клаузевиц 1995: 234]. Территориальная раздробленность помогла Наполеону относительно быстро завоевать страну, которая, не являясь единым целым, не смогла сохранить свою независимость. Тот факт, что такое государственное устройство создает проблемы как всей стране, так и отдельной личности, был очевиден для Ф. Шиллера. Во многом поэтому идея единства особо значима в творчестве поэта.
В контексте рассуждений о принципе единства стоит обратиться к идеям немецкого философа И. Г. Гердера ( Johann Gottfried Herder , 1744–1803), которые были значимы для Ф. Шиллера еще со времени движения «Бури и натиска». В главе «Человек создан, чтобы усвоить дух гуманности и религии» работы «Идеи к философии истории человечества» (“Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit”) Гердер говорит о единстве как о некоем центре, ядре, о том, к чему должно стремиться человечество. Помочь его достижению может закон справедливости, который «обращает людей в верных помощников и братьев друг другу» [Гердер 1977: 109]. Философ полагал, что путь развития человечества – это своеобразное движение к достижению всеобщего единства, предполагающее ценность каждой личности. Закон справедливости, общий для всех людей, предполагает согласие в мыслях, целях, а также нерушимость их союза. По мнению философа, человечность невозможна без соблюдения этого закона. Для Ф. Шиллера идея всеединства и общечеловеческого союза является крайне важной. Ее отражение можно найти в его исторической работе «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества (“Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlan-de von der spanischen Regierung”), написанной в 1788 г., к которой стоит обратиться.
Во введении к данной работе Ф. Шиллер указывает, что, наравне с автором, читателя должна поразить борьба человечества за свои “edelsten Recht“ [Schiller 1788: 1]. Здесь необходимо обратить внимание на значения прилагательного “edel“. Одним из вариантов его перевода на русский язык является слово «драгоценный», которое понимается как нечто, что ценится больше всего; нечто, чем человек особо дорожит. В сочетание с существительным “das Recht“ (право) прилагательное edel подчеркивает его особую ценность. Таким правом, которое ценится человеком превыше всего, по мнению Ф. Шиллера, является свобода. Но следует учитывать и другой вариант перевода слова edel – благородный (благой род). Это слово может быть употреблено в значении того блага (das Gute, das Wohe), которое приобретается человеком при рождении, человек впитывает благо рода (das Güttergesch-lecht). С вариантом перевода «благородный» связаны также значения «знатный» – adelig и дворянский – edel. Данные качества рода дают человеку, принадлежащему к нему, особые права, в числе которых свобода. Из этого следует, что принадлежность к благородному роду, к знатному роду – это, в понимании поэта, свойство души, состояние особой организации личности. Соответственно, свобода – это право, данное человеку при рождении, потому что он – субъект. Не случайно писатель употребляет прилагательное edel в форме превосходной степени – edelsten, на что указывает характерный суффикс -st-, особо подчеркивающий важность права свободы, которого лишился народ Нидерландов, что становится одной из главных проблем указанной исторической работы Ф. Шиллера. Писатель обращает особое внимание читателя на борьбу народа за важнейшие права. Далее Ф. Шиллер отмечает, что одним из помощников в борьбе за свободу является “entschlossen Verzweiflung“ (решительное отчаяние). Думается, что в данном словосочетании определяемое слово и определение не вполне соотносятся. Отчаяние как одно из крайних подавленных состояний исключает решительность, а не предполагает ее. Однако автор имеет здесь в виду ту крайнюю степень чувства отчаяния, которая заставляет людей действовать, несмотря на небольшие шансы положительного исхода ситуации. Такое объединение народа Нидерландов и последующая победа в борьбе, считавшейся проигранной, привлекли внимание Ф. Шиллера. Подобное он заметил в истории Столетней войны, удачный исход которой стал возможным благодаря единству французского народа, которое не могло быть достигнуто без Жанны д᾿Арк и которое не позволило ему утра- тить своей свободы. Данное понятие является ключевым для творчества Ф. Шиллера.
Здесь стоит отметить, что одновременно с драмой «Орлеанская дева» Ф. Шиллер создает стихотворение «Начало нового века» (“Der An-tritt des neuen Jahrhunderts“, 1801), обращение к которому в рамках данной работы целесообразно. В первой строфе поэт заостряет внимание читателя на мысли, что новый век начинается с войн и гибели многих людей, о чем свидетельствует следующая строка: “Und das neue öffnet sich mit Mord“ (И новое открывается убийством) [Schiller 1801a: 458]. Разворачивающиеся военные кампании не только отнимают большое количество жизней, но и ознаменовывают собой гибель свободы, которая для Ф. Шиллера является важнейшим принципом мироздания. В связи с этой мыслью необходимо обратиться к двум отрывкам «О свободе», написанным немецким философом Г. Лейбницем ( Gottfried Wilhelm Leibniz , 1646–1716). Важной представляется следующая мысль: «Несомненно, что каждому человеку присуща свобода совершения любого поступка, т. е. того, что он сочтет наилучшим» [Лейбниц 1982: 307]. Из этого следует, что свобода понимается философом как неотъемлемая часть личности и объясняется через процесс совершения поступка. Человек может выбрать тот поступок, который сам определит лучшим из числа каких-либо возможных. И такой выбор полностью предоставлен личности. Именно она вправе оценивать, насколько тот или иной поступок идеален по отношению к другим, и принимать решение в выборе действия. Как идеальный может быть воспринят тот поступок, который совершается в определенный момент с учетом всех обстоятельств. При этом не столь значительно положительное или отрицательное свойство выбранного действия. Такое представление напрямую связано с идеей Г. Лейбница, касающейся существования мира. По мысли философа, созданный Богом мир существует именно таким, каков есть (с его трагедиями и катастрофами). И существует он потому, что оказывается совершенным и идеальным в сравнении с другими мирами, которые потенциально могли бы существовать. В связи с этим необходимо обратиться к главному убеждению Г. Лейбница о предустановленной гармонии. Философ представлял мир как упорядоченное гармоническое целое, в котором зло допустимо, потому что является противоположностью блага, но при этом зло находится в подчинении у добра. Историк философии К. Фишер ( Kuno Fischer , 1824–1907) в части работы «История новой философии» (“Geschichte der neueren Philosophie“, 1898), посвященной
Г. Лейбницу, отмечал, что его философия «познает в вещах и в миропорядке формирующую, целедейственную силу и гармонический порядок» [Фишер 2008: 510]. Именно представление о гармоническом устройстве мира было чрезвычайно важно для Ф. Шиллера. Стоит отметить, что концепция предустановленной гармонии была знакома поэту со времени его обучения в военной академии. Профессор Я. Ф. Абель ( Jakob Friedrich von Abel, 1751–1829), преподававший философию, строил свой курс лекций именно на учении Г. Лейбница. Так, по мнению Ф. Шиллера, несвобода, воцарившаяся в начале XIX в., нарушает гармонию мира. Восстановление ее возможно благодаря возвращению свободы как отдельной личности, так и целым народам. В финальной строфе стихотворения поэт указывает, что “Freiheit ist nur in dem Reich der Träume“ («Свобода есть только в царстве мечты») [Schiller 1801a: 458]. Пусть наступившее столетие исключило свободу, а новое время губительно для человека, все же этот период должен смениться иным, в котором свобода не будет мыслиться как нечто недостижимое. И это, в свою очередь, вернет гармонию мирозданию. Однако можно предположить, что мысль поэта не ограничивается лишь надеждой на возвращение свободы в будущем. Ф. Шиллер неслучайно выбирает для своих размышлений о проблемах нового тысячелетия именно стихотворную форму. Искусство становится для поэта тем “das Reich der Träume“ (миром мечты), в котором присутствует свобода. В подтверждение данного мнения стоит обратиться к работе Christine Rühling “Spekulati-on als Poesie: Ästhetische Reflexion und literarische Darstellung bei Schiller und Hölderlin“ (2015). В главе, посвященной драме «Орлеанская дева», автор отмечает, что Шиллер считал искусство способным избавить человека от губительного влияния действительности. Исследователь подчеркивает, что под влиянием искусства “erfahre sich der Rezipient als frei und zugleich im Einklang mit sich selbst“ («Реципиент познает себя свободным и при этом в гармонии с собой») [Rühling 2015: 49]. Из этого следует, что, соприкасаясь с искусством, человек может обрести в себе ту свободу, которой лишила его действительность. В связи с этим Ф. Шиллер в своих произведениях стремится дать возможность читателю достичь гармонии. Именно поэтому поэт создает историческую драму, в которой несвобода сменяется свободой, благодаря чему мир перестает быть дисгармоничным.
На страницах своих исторических драм Ф. Шиллер осмысляет прошлое, воссоздает историю заново, ориентируясь на решение проблем современной ему действительности. Обращение к истории Жанны д᾿Арк дает поэту возможность создать образ героини, олицетворяющей важные для него нравственные качества, и показать необходимость единства как народа, так и отдельной личности и народа. Примечательно, что, создавая «Орлеанскую деву», Ф. Шиллер осознанно изменяет исторические события, которые берет в качестве основы произведения. Как известно, личность Жанны д᾿Арк окружена большим количеством легенд, которые начали появляться еще при жизни девы-воительницы. Первое литературное произведение о ней – «Слово о Жанне» (“Ditié de Jeanne”, 1429), автором которого была французская поэтесса К. Пизанская (Christine de Pizan, 1364/1365–1430), – появилось в середине XV в. В нем Жанна сравнивается с героинями Ветхого Завета. Историк О. И. Тогоева в работе «Исполнение пророчеств: ветхозаветные герои Столетней войны» (2005), отмечает, что подобное сравнение было типичным для литературы того времени, поскольку авторы первых произведений о Жанне д᾿Арк пытались «осмыслить ее образ и встроить это необычное явление в свою привычную систему координат» [Тогоева 2006: 91]. Можно говорить о том, что Ф. Шиллер также стремится представить образ девы-воительницы в рамках своих философско-эстетических взглядов, касающихся свободы личности и ее гармонии.
Итак, Фридрих Шиллер, будучи писателем времени модерна, особое внимание уделял личности, ее способности осознавать реальность и темам свободы и гармонии субъекта, являющегося при всех индивидуальных особенностях частью мирового процесса. Необходимо отметить, что для поэта значимо понимание истории как сложной структуры, предполагающей взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, стремления личности к обретению собственной свободы находятся в тесной связи с вопросами единства человечества, справедливости, а также гармонии мира. Поэтическим отражением философских размышлений поэта, касающихся данных вопросов, является финальная сцена трагедии «Орлеанская дева».
Как известно, Жанна д᾿Арк была сожжена английской инквизицией по обвинению в вероотступничестве. Фридрих Шиллер осознанно изменяет финал своей пьесы. В нем Жанна погибает на поле боя, выиграв решающее для Франции сражение. Неисторичность финала трагедии отмечали многие литературоведы. Так, например, исследователь литературы С. В. Тураев во вступительной статье к изданию собрания пьес Ф. Шиллера, называя финальную сцену полу- фантастическим сюжетом, отмечает, что отступление от исторической действительности позволило поэту добиться того, что «зритель воспринимал Иоанну как героиню освободительной битвы» [Тураев 2005: 18]. Действительно, Жанна представляется именно такой. В связи с этим возникает мнение, что ее главная задача – привести французское войско к победе. Однако, основываясь на размышлениях поэта о субъекте и его взаимоотношении с реальностью, можно предположить, что, воссоздавая историю Жанны д᾿Арк как яркой, отличающейся от других личности, Ф. Шиллер не стремился изобразить исключительно ее путь к признанию национальной героиней. Жанна исключительна, она не просто участвует в исторических событиях, а наделена способностью их изменять. В связи с данной мыслью необходимо обратиться к прологу драмы. В нем Жанна присутствует при обсуждении обстановки во Франции. Оставаясь до определенного момента безучастной, она резко выхватывает из рук Бертранда принесенный им шлем и произносит следующее: “Mein ist der Helm und mir gehört er zu“ («Этот шлем является моим, и он мне принадлежит») [Schiller 1801b: 694]. Такое поведение мирной девушки-пастушки кажется странным не только ее отцу и всем присутствовавшим, но и зрителю. Кроме этого, необходимо отметить, что здесь же в прологе Жанна отказалась от помолвки, которая, по мнению Тибо д᾿Арка, гарантировала бы дочери защищенность в неспокойное время. Вместо этого Жанна выбирает судьбу девы-воительницы, что крайне нетипично для XV века. Особое внимание следует обратить на то, что главная героиня сравнивает себя с “Ein weiße Taube“ (белой голубкой) [Schiller 1801b: 697], способной разогнать стервятников, под которыми она понимает захватчиков Франции. Жанна убеждена в том, что именно ей суждено сделать это. Уже в начале пьесы она говорит о себе как о спасительнице. Известно, что Жанна д᾿Арк упоминала о своих видениях, в которых ей была отведена особая роль в истории Столетней войны. Орлеанская дева Ф. Шиллера также по наставлению высших сил должна защитить свою страну. Здесь необходимо обратиться к пониманию свободы, связанной с совершением личностью какого-либо поступка. В работе «О нравственной пользе эстетических нравов» (“Über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten”, 1796) поэт отмечает, что поступок, даже продиктованный посторонним, может считаться свободным, если «поступающий сообразовался исключительно со своей волей, без всякой оглядки на постороннюю» [Шиллер 1957b: 479]. Можно ли считать решение Жанны д᾿Арк стать девой- воительницей свободным? Несмотря на то что ее судьба определена высшими силами, главным является тот факт, что это решение самой героини. Ее поступок продиктован внутренней необходимостью. Не случайно, оставшись одна, Жанна произносит следующее: “Denn eine andre Herde muß ich weiden“ («Ибо я должна пасти другое стадо») [Schiller 1801b: 700]. Обращает на себя внимание модальный глагол müssen («быть должным»). Особенность его употребления связана с необходимостью совершения чего-либо в связи с внутренним убеждением. Если говорить о главной героине, то ее долг, о котором идет речь, не противоречит ее воле, следовательно, она свободна в своих действиях, в своем выборе. Так, уже в прологе Жанна предстает перед зрителем индивидуальностью, обладающей внутренней свободой.
Прибытие Жанны в действующую армию показывает, что все события внешнего действия пьесы в основном связаны с главной героиней, они происходят именно благодаря ей. Этим автор показывает, как субъект может самостоятельно вершить историю. В этом отношении нельзя не отметить, что именно с помощью Жанны окружающие ее герои драмы начинают активно действовать, чтобы спасти Францию. Обращает на себя внимание тот факт, что Жанна целенаправленно стремится помирить дофина Карла VII и герцога Филиппа Бургундского. Как известно, герцог до встречи с Жанной сражался на стороне Англии. Однако дева-воительница убеждает его вернуться к своему народу: “Wir alle, die du zu vertilgen strebst, Gehören zu den Deinen – unsre Arme Sind aufgetan dich zu empfangen, unsre Knie Bereit dich zu verehren“ («Мы все, кого ты стремишься истребить, принадлежим тебе – наши руки открыто тебя принимают, наши колени готовы пред тобой преклониться») [Schiller 1801b: 745]. Жанне важно напомнить Филиппу, что он также относится к Франции, как и она сама. Герцог внимает словам девы, и возвращается к своему народу. В данном эпизоде можно отметить отступление автора от исторического фона. Примирение дофина и герцога произошло на десять лет позже описываемых в драме событий. Можно предположить, что это примирение, так необходимое Франции, ставшее возможным именно благодаря Жанне, было нужно для демонстрации важности единства нации в столь непростых обстоятельствах. Так, мир между дофином и герцогом не только гарантировал Франции успехи на полях сражений Столетней войны, но и положил конец давней вражде двух влиятельнейших родов: Арманьяков и Бургиньонов, что на долгие годы обеспечивало политическое спокойствие страны.
В связи с этим стоит говорить об особо важной для поэта идее всеединства. А потому целесообразно обратиться к оде «К радости» (“An die Freude“), написанной Ф. Шиллером в 1793 г. В ее первой строфе хора звучит призыв: “Seid umschlungen, Millionen!“ («Обнимитесь, миллионы!») [Schiller 1793: 132]. Его можно принять за путь к единству. Необходимо отметить, что в тексте оды часто встречаются обращения “Millionen“ («миллионы») и “Brüder“ («братья»). Единство и братство необходимы человечеству для того, чтобы не утратить себя, свою свободу. Можно сделать вывод, что, осознанно изменяя исторический фон пьесы, поэт стремится показать возможность восстановления разрушенного единства. Это было важно для Ф. Шиллера из-за беспокоившего его начала XIX столетия, которое было ознаменовано дисгармонией мира и отсутствием свободы, в том числе свободы Германии. Немецкий исследователь Альбрехт Кошорке (Albrecht Koschorke, 1958) в работе “Schillers ‚Jungfrau von Orleans’ und die Geschlechterpolitik der Französischen Revolution“ (2005) отмечает, что 1800 г. в литературе преобладала “patriotisch bewegten Ära der Revolutionskriege und napoleoni-schen Feldzüge“ («патриотически настроенная эра революционных войн и наполеоновских кампаний») [Koschorke 2005: 1]. О Фридрихе Шиллере ученый говорит как об одном из первых аналитиков данного времени. Действительно, говоря об «Орлеанской деве», невозможно не отметить патриотической направленности пьесы. Здесь также необходимо обратиться к исследованию “Anthropologie und ‚ästhetische Erziehung’ in Schillers historischen Dramen ‚Jungfrau von Orleans’ und ‚Wilhelm Tell’“ (2019), автором которого является Sara Pazos Marínez. В своей работе автор особое внимание уделяет мысли о том, что Жанна в пьесе является символом революции: “Sie fasst drei Säulen der Französischen Republik zusammen: Liberté, Égalité, Fraternité“ («Она вмещает три столпа Французской Республики: свободу, равенство, братство») [Marínez Pazos 2019: 23]. Такое понимание главной героини акцентирует ту связь временных эпох, которая была особо значима как для искусства времени модерна, так и для Ф. Шиллера. Именно Жанна для поэта символизирует те идеалы, которых не достигла Великая французская революция. Жанна способна созидать, она несет свободу, и благодаря ей возможно восстановить утраченное единство. Принимая во внимание данные рассуждения, а также исторические факты, оказавшие влияние на создание произведения, нельзя отрицать, что идея спасения нации путем обретения единства оказывается важной частью драмы. Однако не стоит рассматривать Жанну лишь как ту героиню, что направляет свой народ на путь спасения. Жанна является яркой личностью, внутренние переживания которой весьма значимы для поэта.
Здесь стоит обратиться к одиннадцатому явлению четвертого действия. В нем Тибо д᾿Арк обвиняет свою дочь в том, что ей в сражениях помогает не Господь, а наоборот, дьявол. Особое внимание необходимо уделить финалу одиннадцатого явления. В авторской ремарке указано следующее: “Johanna bleibt unbeweglich. Neue heftige Donnerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La Hire und Du Chatel gehen ab“ («Жанна остается неподвижной. Новые резкие удары грома. Король, Агнесса, Архиепископ, герцог Бургундский Ля Гир и Дю Шатель уходят») [Schiller 1801b: 790]. Жанна не опровергает обвинений отца, чем удивляет всех присутствовавших. В конце явления она остается одна, покинутая теми, кто более не верит в ее святость. Молчание и застывшая поза главной героини здесь необходимы, с одной стороны, для выстраивания дальнейшего сюжета, приближенного к историческим событиям. Обвинение в служении дьяволу делает Жанну изгнанницей, что дает возможность далее развивать драматическое действие. С другой стороны, эта сцена ярко показывает зрителю трагическую вину главной героини. Вина Жанны в пьесе Шиллера никак не связана с историческим судебным процессом над ней. Жанна считает себя виновной в том, что она полюбила английского рыцаря. Роль девы-воительницы исключает любовное чувство, особенно к врагу. Для Жанны оно равносильно предательству. Она понимает, что более не является той Орлеанской девой, какой она привыкла видеть себя и какой прославлял ее народ. Жанна виновна в своем чувстве, и потому она молчит и считает себя недостойной быть на коронации Карла. Ф. Шиллер ярко показывает переживания главной героини, выдвигая на передний план ее личностные особенности, а не роль спасительницы Франции. Под пером Ф. Шиллера Жанна предстает не той героиней, что неукоснительно следует своему предназначению, но той, которая испытывает запретное для нее чувство и сомневается в том, достойна ли она исполнить свое предназначение.
В этом плане важна реплика Жанны, которую она произносит в разговоре с Раймондом: “In mir ist Friede – Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt!“ («Во мне мир – Пусть приходит то, что хочет, Я в себе больше не осознаю слабости») [Schiller 1801b: 796]. Находясь в изгнании, Жанна отказалась от любви, называемой ею слабостью, и обрела мир в своей душе.
Героиня вновь осознала себя Орлеанской девой, на которую более не гневается Господь и, что немаловажно, которую принимает она сама. Стоит отметить, что искупление главной героиней внутренней вины путем преодоления слабости является важным основанием для создания Ф. Шиллером финала, отличающегося от исторических событий. Эпизод, в котором Жанна разрывает сковывающие ее цепи, свидетельствует о внутреннем освобождении от терзавших ее противоречий. Она свободна как физически, так и духовно.
Обретение внутренней свободы приводит Жанну к становлению той «прекрасной душой», определение которой Ф. Шиллер дает в трактате «О грации и достоинстве» (“Über Anmut und Würde“, 1793). Все поступки прекрасной души нравственны, а ее разум и чувства в гармонии между собой. Важным является то, что прекрасная душа «с легкостью, словно действуя только по инстинкту, исполняет она тягчайшие обязанности, возложенные на человеческое существо, и самая героическая жертва, исторгаемая ею у природной склонности, кажется добровольным действием этой самой склонности» [Шиллер 1957a: 149]. В связи с упоминанием понятия прекрасной души нельзя не отметить его значимость для искусства второй половины XVIII в. Так, Marie Wokalek в работе “Die schöne Seele – eine Denkfigur. Zur Semantik von Gewissen und Ge-schmack bei Rousseau, Wieland, Schiller, Goethe“ (2011) говорит о том, что прекрасная душа является основным понятием для литературы второй половины XVIII в. Благодаря присущей ей гармонии прекрасная душа способна давать ответы на этические, гносеологические и эстетические вопросы своего времени. Она заключает в себе “Ideal eines selbstregierten Menschen“ («Идеал самоуправляемого человека») [Wokalek 2011: 213]. Прилагательное “selbstregierten“ (самоуправляемый) может быть интерпретировано как свойство человеческой души, позволяющее совершать поступки, исходя из собственных нравственных убеждений. Прекрасная душа существует в согласии с собой и миром.
Жанна, являясь в пьесе воплощением прекрасной души, жертвует собой, потому что сильное нравственное чувство не позволяет ей поступить по-другому. Также можно говорить о том, что эта жертва – единственное, что ей остается. Она отказалась от всех слабостей, от любви. Она совершает то, к чему была готова еще в прологе пьесы, когда прощалась с родными полями: “Johanna sagt euch ewig Lebewohl“ («Жанна говорит вам вечные слова прощания») [Schiller 1801b: 699]. В финале пьесы также важной явля- ется следующая реплика смертельно раненной главной героини, произнесенная после окончания сражения: “Und ich bin wirklich unter meinem Volk, Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen? Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an?“ («И я действительно среди моего народа, и более не презираема и не изгнана? Меня не проклинают, смотрят на меня любезно?») [Schiller 1801b: 810]. Все, о чем спрашивает Жанна, имеет для нее значение. Здесь ей важно быть с ее народом, здесь она более в себе не сомневается. Она является частью этого мира, хотя и отличается от окружающих ее людей. В отношении этого можно говорить о некой гармонии, к которой стремится Ф. Шиллер. Также необходимо обратиться к авторской ремарке, завершающей драму. Жанна д᾿Арк умирает с поднятым в руках знаменем, а затем “Auf einen leisen Wink des Königs werden alle Fahnen sanft auf sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird“ («По тихому знаку короля все знамена мягко опускаются на нее так, что она полностью покрыта ими») [Schiller 1801b: 810]. Король, герцог, весь народ, ради которого Жанна жертвовала собой, един в одержанной благодаря ей победе и также един в скорби по ней.
Итак, созданный Фридрихом Шиллером неисторический финал трагедии необходим для того, чтобы изобразить становление Жанны д᾿Арк прекрасной душой. Являясь поэтическим воплощением этого важнейшего для искусства второй половины XVIII в. понятия, главная героиня не только спасает свой народ, но и возвращает в мир такие важные его составляющие, как единство и гармония. Ярко акцентированная в пьесе индивидуальность Жанны важна для наиболее полной передачи своеобразия создаваемого образа главной героини: в процессе развертывания сюжета она, преодолевая внутреннюю вину, принимая свое предназначение, обретает ту душевную свободу, которая мыслилась поэтом как неотрывная часть личности и мироздания, связанная со всеобщей гармонией. Именно благодаря объединению в образе Жанны гармонии и свободы в финале трагедии демонстрируется единство как народа, так и отдельной личности и целого мира.
Список литературы Смысл и значение финала драмы Фридриха Шиллера "Орлеанская дева"
- Аствацатуров А. Г. Образ человека модерна (Рокайроль Жан Поля) // Человек эпохи модерна: герменевтика субъекта в немецкоязычной культуре XVIII-XX веков / под. ред. А. А. Вольского. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. С. 36-57.
- Гегель Г. Работы разных лет в двух томах. М.: Мысль, 1971. Т. 2. 630 с.
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 703 с.
- Декарт Р. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1989. Т. 1. 654 с.
- Жеребин А. И., Аствацатуров А. Г., Вольский А. Л. Человек эпохи модерна: герменевтика субъекта в немецкоязычной культуре XVIII-XX веков / под. ред. А. А. Вольского. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 516 с.
- Клаузевиц К. 1806 год. М.: Мысль, 1995. 260 с.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1982. Т. 1. 636 с.
- Тогоева О. И. Исполнение пророчеств: ветхозаветные герои Столетней войны // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М.: Ин-т всеобщ. ист. РАН, 2006. Т. 7. С. 88-106.
- Тураев С. В. Фридрих Шиллер - мыслитель, поэт, драматург // Шиллер Ф. Коварство и любовь: Драмы, стихотворения. М.: Эксмо, 2005. 640 с.
- Фишер К. История новой философии. Т. 3. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 814 с.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003. 415 с.
- Шиллер Ф. О грации и достоинстве // Шиллер Ф. Собрание сочинений в семи томах. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1957a. Т. 6. С. 115-171.
- Шиллер Ф. О нравственной пользе эстетических нравов // Шиллер Ф. Собрание сочинений в семи томах. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1957b. Т. 6. С. 478-488.
- Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1955. 433 с.
- Koschorke А. Schillers "Jungfrau von Orleans" und die Geschlechterpolitik der Französischen Revolution // Friedrich Schiller und der Weg in die Moderne / hrsg. von Walter Hinderer. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006. S. 243-259.
- Marínez Pazos S. Anthropologie und "ästhetische Erziehung" in Schillers historischen Dramen "Jungfrau von Orleans" und "Wilhelm Tell". Santiago de Com-postela; USC, Facultad de filología, 2019. 38 с.
- Rühling Ch. Spekulation als Poesie: Ästhetische Reflexion und literarische Darstellung bei Schiller und Hölderlin. Berlin: De Gruyter, 2015. 425 с.
- Schiller F. An die Freude. 1793. URL: http://www.zeno.org/Literatur/M/Schiller,+Friedrich/ Gedichte/Gedichte+( 1776-1788)/An+die+Freude (дата обращения: 17.10.2022).
- Schiller F. Der Antritt des neuen Jahrhunderts. 1801a. URL: http://www.zeno.org/Literatur/M/ Schiller,+Friedrich/Gedichte/Gedichte+(1789-1805)/ Der+Antritt+des+neuen+Jahrhunderts (дата обращения: 17.10.2022).
- Schiller F. Die Jungfrau von Orleans. 1801b URL: http ://www. zeno. org/Literatur/M/S chiller,+ Friedrich/Dramen/Die+Jungfrau+von+Orleans (дата обращения: 17.10.2022).
- Schiller F. Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. 1788 URL: https://www.projekt-gutenberg.org/schiller/ni-ederld/niede02.html (дата обращения: 17.10.2022).
- Wokalek M. Die schöne Seele - eine Denkfigur. Zur Semantik von Gewissen und Geschmack bei Rousseau, Wieland, Schiller, Goethe. Göttingen: Wallstein Verlag, 2011. 400 с.
- Vietta S. Die literarische Moderne. Stuttgart: Metzler, 1992. 361 c.