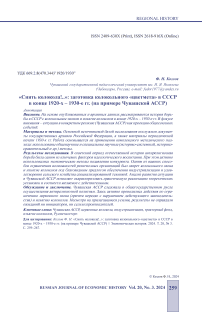«Снять колокола!..»: заготовка колокольного «цветмета» в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Чувашской АССР)
Автор: Козлов Ф.Н.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Региональная история
Статья в выпуске: 3 (66) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. На основе опубликованных и архивных данных рассматриваются история борьбы в СССР с колокольным звоном и изъятие колоколов в конце 1920-х - 1930-е гг. В фокусе внимания - ситуация в конкретном регионе (Чувашская АССР) как проекция общесоюзных событий.
Чувашская асср, церковные колокола, индустриализация, тракторный фонд, изъятие колоколов, рудметаллторг
Короткий адрес: https://sciup.org/147244188
IDR: 147244188 | УДК: 669.2.8(470.344)”1920/1930”
Текст научной статьи «Снять колокола!..»: заготовка колокольного «цветмета» в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Чувашской АССР)
Государственно-церковные отношения в СССР представляют собой целостную систему взаимосвязанных и взаимообуслов-ливающих ракурсов, каждый из которых служит важным звеном в общей структуре. Идеологическое противостояние со стороны партийно-советского аппарата активно дополнялось финансово-экономическим подавлением конкурента. Одним из таких средств являлись различные запреты, а также лишение религиозных объединений одного из главных атрибутов организации богослужения. Речь идет об ограничении практики колокольного звона и изъятии колоколов. Осуществлялась эта деятельность под благовидными предлогами защиты «права трудящихся на отдых» и необходимости материального обеспечения развития промышленности в рамках масштабной индустриализации и предоставления колхозам необходимой сельскохозяйственной техники. Целевые установки, организационная работа и результаты наглядно прослеживаются на примере Чувашской АССР.
Материалы и методы
Исследование выполнено на основе архивных и опубликованных материалов. Основой для изучения поднимаемых вопросов послужили документы трех региональных архивов: Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР),
Государственного архива Республики Татарстан и Центрального архива Нижегородской области. Существенным дополнением к ним стали материалы местной периодической печати, прежде всего газеты «Красная Чувашия», выступавшей в рассматриваемый исторический период официальным органом Чувашского обкома ВКП(б) и Центрального исполнительного комитета Чувашской АССР.
Исследование основывается на применении комплексного методического подхода. Были использованы общенаучные и специальные научные методы. Историкосистемный и проблемно-хронологический методы позволили взглянуть на ситуацию через призму общеконцептуального рассмотрения государственно-церковных отношений в соответствующий период, историко-сравнительный – провести некоторые параллели к развитию ситуации в других субъектах РСФСР.
Результаты исследования
Начнем с частного факта. В начале 1932 г. решением Акулевского сельсовета Чувашской АССР, утвержденным постановлением Президиума Чебоксарского райисполкома, был запрещен колокольный звон в местном храме. Мотивационной установкой послужило нахождение рядом с церковью учебного и медицинского учреждений: «Мешает занятиям в школе и также волнует больных»1. Обращение в прокуратуру Чувашской АССР и ЦИК Чувашской АССР положительного результата для религиозной общины не дало. В июле 1932 г. последовало ходатайство во ВЦИК. Упор был сделан на противоречии: «Хотя во всех окружающих церквах звонят, но в нашем селе Акулево по настоянию учителя Зайцева с/совет беспричинно запретил звон». Члены церковного совета просили, в принципе, для себя немного: «Разрешить нам звон хотя бы до 9 часов утра в праздничные дни»2. 21 декабря 1932 г. Президиум ВЦИК обязал ЦИК Чувашской АССР «принять меры к исправлению действий с[ельского] с[овета] и РИКа»3. Проблема разрешилась в пользу верующих. Однако уже менее чем через год, в апреле 1933 г., местный сельсовет вновь запретил осуществление колокольного звона, и данное решение было опять поддержано на заседании Президиума Чебоксарского райисполкома. Поводом послужило все то же близкое расположение школы и больницы4. Председатель церковного совета обратился с жалобой на действия сельсовета и районных властей в Комиссию по делам культов при Президиуме ЦИК Чувашской АССР. Ситуация фактически один в один повторила прошлогоднюю. Уже имея опыт рассмотрения этого вопроса на уровне Президиума ВЦИК, региональный высший распорядительный и контролирующий государственный орган направил в Чебоксарский райисполком указание: «Подобные действия явно противоречат действующему законодательству о религиозных объединениях. Комиссия по делам культов при ЦИК ЧАССР предлагает срочно отменить постановление с[ельского] с[овета]»5.
В описанной ситуации удивляет только одно: зачем работники сельсовета и райисполкома решили снова наступить на те же грабли? Впрочем, вряд ли стоит поражаться этому факту. Свою роль здесь играют два важных обстоятельства: отношение новых властителей страны к колокольному звону и экономический фактор. Разберем каждое из них.
Еще в 1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР «О набатном звоне», закрепивший ответственность («предаются революционному трибуналу») за «созыв населения набатным звоном […] в контрреволюционных целях»6. Вообще, колокольный звон является напоминанием для верующих о необходимо- сти помнить Бога: им верующие созываются на богослужения, он же знаменует собой и окончание церковной службы. А еще колокольный звон служил на Руси средством информирования об опасности – при чрезвычайных ситуациях или при нападении неприятеля. И именно таким образом – ударами в набат – начинались многие крестьянские выступления против советской власти. Потому нет ничего удивительного в попытках партийно-советских лидеров ограничить практику применения колокольного звона. В 1926 г. наркоматами юстиции и внутренних дел РСФСР была разработана инструкция «О порядке пользования колоколами». В связи с тем что звон «нарушает нормальное отправление общественного правопорядка», она установила существенные ограничения: в частности, не допускался церковный звон, не связанный непосредственно со службами в дни великих христианских праздни-ков7. Осенью 1929 г. статус запретительного документа был поднят до постановления Президиума ВЦИК. Документ указал, что колокольный звон «резким образом противоречит принципу отделения церкви от государства, ибо нарушает бытовые условия и права широких безрелигиозных трудящихся масс, особенно города, мешает труду и использованию трудящимся населением его отдыха» [2, с. 38]. Однако уже в это время на местах ставился вопрос о полном прекращении колокольного звона. Циркуляр Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросам культов от 8 июня 1933 г. определил, что «регулирование колокольного звона находится в компетенции горсоветов и РИКа, которые могут таковой ограничивать или запрещать с последующим утверждением через культовые комиссии президиумов
ЦИКов АССР, крайисполкомов и облиспол-комов»8. Представленная «свобода» нередко приводила к существенным перегибам. Например, в середине 1930-х гг. фиксировалось применение на практике запретов колокольного звона без какого-либо юридического оформления (в устной форме!) теми, кто вообще не имел такого права (заведующие избами-читальнями, учителя и др.). Массово распространилось использование в качестве предлога для его запрещения нахождение рядом с церковью культурно-досуговых, образовательных и других государственных учреждений9. Солдыбаевский сельсовет Козловского района Чувашской АССР решением от 15 апреля 1934 г. запретил колокольный звон на период весеннего сева [3, с. 66].
Не менее важную роль, чем идеологический, в «борьбе» с колокольным звоном играл экономический фактор. По мере развития народного хозяйства в стране только нарастал спрос на цветные металлы. Уже с середины 1920-х гг. сбор и переработка металлолома в целом и колокольной бронзы в частности стали экономически рентабельными. В июле 1925 г. постановлением Совета труда и обороны СССР при Президиуме Высшего совета народного хозяйства была образована особая Комиссия по созданию специального фонда финансирования металлургии цветных металлов (Комцветфонд). Основная ее функция заключалась в изъятии у государственных и иных учреждений «цветного металлического лома, неликвидных запасов цветных металлических изделий и материалов»10. Именно в этот период можно говорить о первых единичных случаях изъятия колоколов в Чувашии. Правда, речь тогда шла об удовлетворении конкретных прикладных общественно значимых нужд органов управления: в январе
1924 г. в г. Мариинский Посад колокол местной Троицкой церкви был использован для замены «разбитого колокола для отбивки часов на каланче»11.
В 1929 г. в свет вышла книга профессора П. В. Гидулянова, занимавшего должность научного работника Госплана РСФСР (в 1920–1925 гг. – консультанта Наркомата юстиции РСФСР по отделу культов) «Церковные колокола на службе магии и царизма», в редакционном предисловии к которой было откровенно заявлено, что «сегодняшним делом, и именно делом активных безбожников, по нашему убеждению, должно быть дело передачи огромнейшего количества ценнейшего металла колоколов (все еще работающих у нас на пользу обломкам эксплуататорских классов) – кузнецам декретированного пятилетнего плана поднятия нашей, советской, промышленности», а автор «крайне ориентировочно» подсчитал общую массу колоколов в СССР в 2,0 млн пудов12. Как видим, цели были глубоко прагматичными и даже не скрывались.
От слов быстро перешли к делу. Охота за колокольной бронзой стала стратегически важным пунктом в развитии советской промышленности. В ноябре 1930 г. появилось постановление Совета по труду и обороне СССР о снятии колоколов для обеспечения народного хозяйства цветными металлами. Во избежание конкуренции между Ком-цветфондом и Рудметаллторгом (созданным в 1922 г. как государственное объединение и акционированным уже спустя год) первый в 1928–1929 гг. был ликвидирован, а второй получил монопольное право на сбор лома и отходов цветных металлов13. Специалисты Рудметаллторга подготовили соответствующий пятилетний план, согласно которому в целом по стране ежегодно в «доход» государства должны были поступать десятки тысяч тонн колокольного «цветмета». Всего же к 1934 г. предполагалось «переработать» 130 тыс. т колокольной бронзы. Более осторожные работники Научно-исследовательского, проектного и конструкторского института горного дела и цветных металлов (Гипроцветмет) определили общую массу колоколов по СССР минимум в 74 600 т, максимум – в 97 960 т. Из этого количества ожидалось получить свыше 55–69 тыс. т чистой меди и около 12–14 тыс. т олова. К октябрю 1930 г. в промышленную переработку поступило 11 тыс. т колокольной бронзы. Высшему совету народного хозяйства СССР этого показалось мало, последовало обращение в СНК СССР. Последний со своей стороны спустил в союзные республики жесткое требование: сдать до конца текущего года и в первом полугодии следующего не менее 25 тыс. т лома колоколов, при этом основная нагрузка («не менее 20 тыс. т») приходилась на РСФСР14.
Стоит согласиться с высказанным священником Валерием Рябоконем мнением, что «в антиколокольной борьбе к концу 20-х гг. превалирование экономических интересов над идеологическими антирелигиозными установками было особенно очевидным» [6, с. 220]. Представители атеистического движения внесли «скромную» лепту в выполнение этого плана. По подсчетам «математиков» из Союза воинствующих безбожников СССР, в стране в ситуации, когда «грандиозно растущая» промышленность испытывает нехватку меди, в общей сложности было около четверти миллиона тонн колокольной бронзы (обратим внимание на существенное расхождение данной цифры с вышеприведенными подсчетами П. В. Гидулянова и Ги-процветмета!). Директивы Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР в духе времени одной из практических задач антирождественской и антипас- хальной кампаний определяли организацию обсуждения в трудовых коллективах и на различных собраниях граждан вопроса «о сдаче колоколов на нужды индустриализации» с естественным последующим положительным по нему решением15.
Местная периодика, что называется, взяла тему на вооружение. В течение 1930 г. в газете «Красная Чувашия» одна за другой появлялись соответствующие публикации. Они стоят того, чтобы быть процитированными – так лучше воспринимается «дух» эпохи: «Одна из церквей г. Цивильска все время пустует и бывает под замком. На колокольне этой церкви много колоколов. Пора бы эту церковь (Напольную) закрыть, а колокола сдать на индустриализацию страны»; «Наша страна особенно нуждается в цветном металле, а у нас в Чувашии под боком зря болтаются сотни тысяч пудов меди, служа поповскому обману. Пора, давно пора заставить замолкнуть медные голоса, мешающие нам работать и уводящие нас назад к векам рабства и подневольного труда. Возьмем металл на индустриализацию страны!»; «Имеющиеся значительные средства внутри нашей страны – церковные колокола – не только не участвуют в индустриализации страны, но служат орудием одурманивания масс в руках попов. Перед трудящимися г. Чебоксар стоит вопрос о передаче всех церковных колоколов на индустриализацию страны»; «В с. Иванькове Алатырского района снятый с закрытой церкви колокол (250 пудов) уже около месяца валяется у церкви. Ни сельсовет, ни городские организации и не думают убирать его. Надо сейчас же убрать беспризорный колокол и сдать его Госторгу»16.
Авторы газетных заметок (а они действительно по объему представляли собой относительно небольшие – буквально в несколько строк – тексты) настойчиво убеждали, что «колокольный звон совершенно не нужен для совершения религиозных обрядов», «в колоколах у нас зря пропадают десятки тысяч тонн лучшего металла, в котором так нуждается наша промышленность», и призывали передать «колокола на индустриализацию страны», перевести «колокольный звон – на звон станков и машин», манили фразами «у нас трактор висит на колоколь-не»17. Под влиянием подобной агитации решения о передаче в различные фонды (тракторный фонд, фонд индустриализации и др.) были приняты на общих собраниях граждан г. Цивильска, сел Стемасы Алатырско-го района, Байглычево, Избахтино, Малые Яльчики и Шемалаково Малояльчиковского района, Бичурино Мариинско-Посадского района, Порецкое одноименного района и др.18 Опираясь на «мнение» граждан, соответствующие постановления принимали управленческие структуры. Так, 30 апреля 1930 г. Президиум Алатырского городского Совета депутатов трудящихся, «исходя из наличия настоятельных массовых требований и ходатайств членов профсоюзов, в том числе рабочих лесозаводов и ж. д. транспорта, членов Общества хлеборобов и трудящихся города, выразившихся и зафиксированных на посвященных этому вопросу собраниях, митингах по предприятиям и учреждениям, проведенных по инициативе самих трудящихся, и, кроме того, на общегородском и профсоюзном собрании и повторенных трудящимися на общегородском митинге с общим количеством участников
7 000 человек» (кстати, в их числе были 285 из 372, т. е. фактически более трех четвертей, членов официально зарегистрированных религиозных общин), удовлетворил требование «снять со всех церквей колокола и передать на дело индустриализации и коллективизации с/хоз-ва»19.
«Тракторная» тема фактически была распространена повсеместно – от западных до восточных границ страны. Выступления агитаторов в Татарской АССР заканчивались хлестким призывом: «Долой церкви, долой колокола – даешь колхозы и тракторы!» [Цит. по: 4, с. 288]. По воспоминаниям очевидцев, в Новосибирской области из уст тех, кто забирал колокола, звучала фраза: «Трактор вам из них сольем!». Сохранились и фотографии, на которых видны транспаранты «Меняем колокола на трактора!» и «Меняем колокола на машины!», украшавшие подводы со снятыми колоколами [7, с. 92].
В результате коллективного приложения усилий органов государственного управления и общественных институций в первой половине 1930-х гг. параллельно шли сразу две кампании – ограничение колокольного звона и изъятие колоколов, – причем вторая была просто невыполнима без первой. Ограничение церковного благовеста дало повод для сбора «лишних колоколов», причем, как отмечает Д. В. Поспеловский, что понимать под «лишними», нигде не указывалось и не определялось [5, с. 163]. Циркуляр Центральной комиссии по вопросам культов от 8 июня 1933 г. обязал культовые комиссии при региональных органах управления в месячный срок учесть весовые и количественные характеристики колокольной бронзы, выделяя при этом в отдельный список колокола особой тональности и колокола малой массы (до 16 кг) с целью последующего использования последних как сигнальных на предприятиях, в пожарных командах и в сельской местности. Циркуляр был доведен до низовых исполнителей с добавлением еще одного обязательного условия: учитывать раздельно колокола действующих и закрытых храмов. При этом от местных органов власти требовалось жесткое соблюдение «известного вам пла-на-наряда»20. Не ради ли выполнения этого самого «плана» так старались в приведенном в начале нашей статьи примере представители Акулевской сельской и Чебоксарской районной администраций, причем настолько рьяно, что товарищам «сверху» пришлось одергивать их во избежание новых жалоб верующих?
Обобщающие данные о количестве и массе изъятых колоколов по Чувашии неизвестны, по крайней мере в изученных архивных фондах и опубликованных материалах такой статистики нам не встречалось. Имеется лишь информация по отдельным городам и районам республики. В г. Алатыре, например, с 1930 по 1936 г. были изъяты колокола общей массой более чем 50 т.21 В 1934 г. ЦИК Чувашской АССР принял специальное постановление «О заготовке колокольной бронзы», в котором говорилось об обеспечении сдачи цветного металла за счет изъятия колоколов с колоколен закрытых церквей. По неполным данным, в 1934–1936 гг. в Чувашии в различные фонды было сдано около 200 т колокольной бронзы [1, с. 151, 152].
Еще один важный аспект изучаемой темы – соответствие целеполагания и его практических результатов. Исходя из уровня цен 1930 г. (пуд меди – примерно 8,5 руб., трактор – 1 700 руб.), «специалисты» из Союза воинствующих безбожников определили паритетное соотношение между сельскохозяйственной техникой и колокольной бронзой: один трактор «стоил» примерно 200 пудов колокольной бронзы22. Руководствуясь таким соотношением, можно предполагать, что в сельское хозяйство Чувашии должны были прийти десятки, а то и сотни тракторов. О том, как на самом деле «давалась» техника, лучше всего свидетельствуют документы. Выступая на IV Съезде Советов Чувашской АССР, проходившем в феврале 1931 г., председатель колхоза с «говорящим» названием «Трактор» Аникин рассказал, какими оказались последствия «ударной работы» в этом направлении по Малояльчиковскому району: «В прошлом году со всех церквей мы сняли колокола и собрали сотни тысяч рублей в фонд тракторизации. Нам обещали дать 150 тракторов, потом 115, потом 100 и в конце концов получили три трактора»23.
Обсуждение и заключение
Изучение одного из частных аспектов государственно-церковных отношений в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. показывает, что экономический фактор в названной сфере играл далеко не последнюю роль. Идеологическое противостояние со сторо- ны партийно-советского аппарата активно дополнялось финансово-экономическим подавлением конкурента. Усилия властных структур не фокусировались на каком-то одном приоритетном направлении, а представляли собой целую систему элементов лишения Русской православной церкви ее материального базиса. Одним из массово применяемых средств стало ограничение церковного звона (причем нередко с нарушением действующего законодательства) и изъятие колоколов под предлогом покрытия дефицита цветных металлов. Национальные регионы (на примере рассмотренной нами Чувашской АССР) в данном случае не демонстрировали индивидуальность и специфику, следуя в общегосударственном русле осуществления антирелигиозной политики. Вместе с тем конечный результат, несмотря на значительные прилагавшиеся усилия, не оправдал ожиданий ни инициаторов, ни сельхозпроизводителей.
Список литературы «Снять колокола!..»: заготовка колокольного «цветмета» в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Чувашской АССР)
- Браславский Л. Ю. Православные храмы Чувашии. Чебоксары, 1995. 350 с.
- Васильева О. Ю. Русская православная церковь в 1927-1943 годах // Вопросы истории. 1994. № 4. С. 35-48.
- Ксенофонтов Г. Н. Церкви Козловского района. Козловка, 1994. 103 с.
- Мухин В. Н., Федорова Н. А. "Антиколокольная кампания" как составная часть коллективизации (по материалам ТАССР) // Крестьянство в российских трансформациях: исторический опыт и современность: материалы III Всерос. (XI Межрегион.) конф. историков-аграрников Среднего Поволжья. Ижевск, 2010. С. 287-291.
- Поспеловский В. Д. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 511 с.
- Рябоконь В., свящ. Особенности антиколокольной политики середины 20-х - начала 30-х годов ХХ века и ее реализация в Смоленске // Христианское чтение. 2015. № 5. С. 219-237.
- Талашкин А. В. Заготовка колокольной бронзы в Западной Сибири в 30-е гг. ХХ века: технология, динамика, культурные последствия // Культурное наследие России. 2011. С. 91-99.