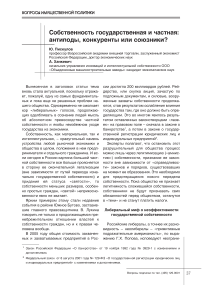Собственность государственная и частная: антиподы, конкуренты или союзники?
Автор: Пискулов Ю., Ханкевич А.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 11 (62), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170151391
IDR: 170151391
Текст статьи Собственность государственная и частная: антиподы, конкуренты или союзники?
Вынесенная в заголовок статьи тема вновь стала актуальной, поскольку отражает, пожалуй, одну из самых фундаментальных и пока еще не решенных проблем нашего общества. Одновременно не смолкает хор «либеральных» голосов, продолжающих вдалбливать в сознание людей мысль об абсолютном превосходстве частной собственности и якобы неизбежном уходе государства из экономики.
Собственность, как материальная, так и интеллектуальная, – краеугольный камень устройства любой рыночной экономики и общества в целом, положения в нем предпринимателя и отдельного гражданина. И если сегодня в России картина большой частной собственности все больше проясняется в сторону ее окончательной легализации (вне зависимости от путей перехода изначально государственной собственности) и придания ей статуса «святости», то собственности меньших размеров, особенно простых граждан, «святой» неприкосновенности явно не хватает.
Ярким примером этому стали недавние события в районе Южное Бутово, заставившие главного правозащитника В. Лукина говорить не только о продолжающемся пренебрежительном отношении властей к собственности граждан, но и к правам человека вообще.
В 2005 году общая стоимость захваченных и захватываемых предприятий в Рос- сии достигла 200 миллиардов рублей. Рейдерство, или скупка акций, зачастую по подложным документам, и силовые, вооруженные захваты собственности продолжаются, став результатом ослабления влияния государства там, где оно должно быть определяющим. Это во многом явилось результатом оставленных законотворцами «лазеек» на правовом поле – сначала в законе о банкротстве1, а потом в законе о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприятий2.
Эксперты полагают, что остановить этот разрушительный для общества процесс можно лишь через легитимизацию («амнистию») собственности, признание ее законности вне зависимости от «справедливости» законов и порядков, существовавших на момент ее образования. Это необходимо для предотвращения нового передела собственности. Пока общество не признает легитимность сложившейся собственности, собственники не будут признавать свих обязанностей перед обществом, останутся в «тени» и не станут платить налоги.
Либеральный миф о неэффективности государственной собственности
Российские либералы, а точнее их разновидность – неолибералы – «примитивные подражательные американисты», по выражению Г.Х. Попова, исповедуют неограни- ченную свободу рынка и конкуренции и не устают повторять, что развитие России возможно лишь при условии существования частной собственности, а государственная собственность должна умереть.
«Нужно понять, – убеждает главный либеральный теоретик Е. Ясин, – что российская экономика может развиваться только на основе частной инициативы… Усиление вмешательства государства в экономику… создает серьезные ограничения для экономического роста»3. В позиции наших либералов мало что изменилось по сравнению с 90-ми годами прошлого века, когда экономика России находилась в глубоком кризисе, а руководство страны – в плену идей Е. Гайдара и его американских советников. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, программа стабилизации – либерализации – приватизации 1990-х годов создала условия не для роста экономики России, а для ее деградации, а приватизация, нанесшая стране «опустошительный ущерб», вела не к созданию богатства, а к «обдиранию активов», падению доходов населения и росту неравенства: «задача для России – остановить разграбление»4.
Тем не менее в последние годы экономика во многом стабилизировалась благодаря высоким доходам от экспорта нефти и более внятной политике властей. И хотя до оптимального использования гигантских валютных средств на цели диверсификации и модернизации экономики еще далеко, абсурдность идей российских приверженцев пресловутого «Вашингтонского консенсуса» стала очевидной. Уже в 2003 году политическая партия либералов «Союз правых сил» потерпела сокрушительное поражение на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Госдума), что означало непринятие российским обществом «либерального» курса.
В результате некоторые из штатных либералов были вынуждены уйти с политической арены, как это сделал советник прези- дента А. Илларионов, другие же извлекли для себя уроки и стали «исправлять ошибки». Публично изменив своим идейным взглядам, они сочли нужным поддержать государственную промышленную политику (о которой раньше не хотели и слышать), выступили за создание государственных инвестиционных фондов и даже стали меньше публично ругать государственную собственность. Иногда, правда, они позволяют себе отвести душу в либеральных высказываниях, но за границей.
Так ли это? И отчего частная собственность в России столь «продуктивна»? По мнению председателя Счетной палаты Российской Федерации С. Степашина, первоначальная многократная недооценка активов при приватизации стала главной причиной последующего резкого роста капитализации целого ряда приватизированных предприятий наиболее привлекательных отраслей (нефтяных, металлургических, энергетических и т. п.), а вовсе не следствием удивительных управленческих способностей новых собственников и менеджеров частного сектора. Аудитор Счетной палаты А. Беляков указывает на факт5 продолжающегося сегодня занижения стоимости активов приватизируемых предприятий, а следовательно, установления заниженных цен приватизационных сделок и недополучение федеральным бюджетом больших средств за проданное имущество.
Причину так называемой высокой эффективности частной собственности следует искать и в отсутствии достоверных методик оценки приватизируемого имущества. В его стоимость не включаются нематериальные ресурсы и активы (научные разработки, патенты и т. д.). Созданные на базе государственных предприятий частные компании фактически безвозмездно получили в свое распоряжение нематериальные активы, ранее принадлежавшие государству, а значит, безвозмездно создали основу для обеспечения своей долгосрочной конкурентоспособности.
Специалисты, например В. Назаров, отмечают, что в России так и не сложился общественный институт оценки, хотя соответствующий закон был принят более 8 лет назад. В России по примеру западных стран надзорные функции переданы так называемым саморегулируемым организациям оценщиков, погрешность которых при оценке государственной собственности (не без участия лоббистов и заинтересованных чиновников) иногда измеряется не процентами, а кратными разами. В недостроенном состоянии все еще находится и институт аудита.
Еще один важный момент: сегодня государство уделяет очень мало внимания предпродажной подготовке подлежащих приватизации предприятий. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество), по словам аудитора А. Белякова6, фактически не несет никакой ответственности за экономические последствия прекращения деятельности предприятий и даже целых отраслей. В результате отрасли прекращают существование после такой приватизации, оторванной от оценки потребностей страны в производимых ими товарах или услугах. Более того, сам процесс приватизации нередко идет с нарушениями, а последствия такой приватизации никем не просчитываются.
В нарушение закона о приватизации Росимущество осуществляет функции передачи акций по договорам купли-продажи приватизируемого имущества, что выходит за пределы его компетенции, которая законодательно закреплена за Российским фондом федерального имущества (РФФИ). Только РФФИ имеет право эксклюзивно торговать государственными федеральными активами.
Во многом следствием административной неразберихи и невнимания – питательной среды коррупции – является низкая эффективность управления государственной собственностью, из которой к тому же через приватизацию были изъяты самые доходные куски. Объем продукции и услуг, произведенных государственным сектором в 2005 году, составил 7,7 процента от общероссийского производства, а число занятых – 36 процентов от всех работающих. Из 8 тысяч федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) лишь треть работает с прибылью. Еще хуже обстоит дело со сдачей государственной недвижимости в аренду. Ущерб, наносимый такой арендой государству, по оценке специалистов, исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардами, долларов.
Однако ведомственная неразбериха и низкий уровень управления еще не повод для огульных утверждений либералов о тотальной неэффективности государственной собственности.
Джозеф Стиглиц также отмечает, что реформаторы 1990-х предполагали, что приватизация исключит участие государства в экономике. Однако это «чересчур наивное представление о роли государства в современной экономике. На самом деле государство влияет на экономику великим множеством разных способов и на множестве разных уровней»7.
Вопрос, какая собственность лучше для развития экономики, на наш взгляд, является некорректным и ненаучным. Успех зависит не от приоритета той или иной формы собственности, а от приоритета их функций. Субъективное предпочтение той или иной формы собственности лежит в основе командно-административных методов управления независимо от того, каким образом они насаждаются – административной палкой или рыночной вседозволенностью. Лучшей формой собственности может быть любой из ее видов. Все зависит от их функциональной роли в экономическом процессе, что доказывается опытом всех стран, успех которых в первую очередь определялся успехом экономической политики государства, грамотным взаимодополнением обеих форм собственности, а не отрицанием одной из них.
Академик Н. Петраков, директор Института проблем рынка, напоминает, что глав- ное не то, кому принадлежит предприятие, а профессионализм тех, кто им управляет. Частная собственность, считает он, может быть даже хуже государственной, когда она превращается в монополию. К сожалению, у нас развелось много лоббистов капитала-собственности и очень мало лоббистов капитала-функции.
Можно привести много примеров успешной конкуренции государственных предприятий с частными и за рубежом, и в России, где такие компании, как «Роснефть», Сбербанк, Внешторгбанк, по своим финансовым показателям и рентабельности активов ничуть не хуже большинства частных компаний.
Необходимо эффективное государственно-частное партнерство
Для ускорения экономического роста большое значение, на наш взгляд, имеет не конкуренция, а взаимодействие двух форм собственности, или то, что называется государственно-частным партнерством. И здесь главное даже не в паритетности вкладов или прибылей (хотя это тоже важно), а в понимании общих (национальных) интересов и общих целей, объединении материальных и интеллектуальных ресурсов, сближении административной культуры и культуры бизнеса.
Особенно важно качество менеджмента. Перед лицом рынка равны и частные, и государственные предприятия, а топ-менеджеры последних, если, конечно, они не «пилят» государственную собственность в своих интересах, ничем не хуже их высокооплачиваемых коллег по частному бизнесу. Генеральный директор государственной «Роснефти» С. Богданчиков, имеющий репутацию «акулы бизнеса», блестяще это доказывает.
Можно согласиться с мнением бывшего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В. Колесникова, который выступал против того, чтобы государство брало на себя расходы по менее перспективным направлениям по принципу:
«бизнесу – вершки, а государству – корешки». Государство должно участвовать в доходах, а не в расходах своих коммерческих партнеров8. Как известно, царский министр С. Витте гордился тем, что выкупал для государства железные дороги из частных рук, полагая, что эта стратегическая инфраструктура экономики должна быть в государственных руках.
Сегодня государство после многолетнего застоя возвращается в экономику в рамках государственно-частного партнерства. Как ни парадоксально с точки зрения «вертикали власти», но это возвращение стало реакцией высшего руководства страны на неспособность либерального крыла исполнительной власти использовать огромные финансовые ресурсы и благоприятную внешнюю конъюнктуру для ускорения экономического роста и его качественного наполнения. Президентская формула обеспечения национальных интересов через использование «абсолютно легальных рыночных механизмов» имела своим результатом поглощение в 2005 году государственными компаниями ряда стратегически важных предприятий, что составило почти треть российского рынка слияний и поглощений.
Концентрация активов в руках государства, в том числе через сделки с лояльными предпринимателями, – не самоцель, а средство достижение конкурентоспособности российских предприятий, особенно несырьевых, на мировых рынках. Критика этого процесса со стороны либеральной прессы представляется нам неубедительной хотя бы по причине неспособности крупного сырьевого бизнеса обеспечить диверсификацию российской экономики и ее устойчивый рост.
Исполнительная власть, вовлеченная в реализацию президентских национальных проектов, похоже, неожиданно для себя и даже вопреки прежним либеральным установкам осознала необходимость всерьез озаботиться созданием полноценной экономической стратегии. Пришло осознание того, что пора, наконец, заняться правдоподобной перспективой развития реальной экономики: что будет развиваться, где, ка- кими темпами, за счет каких ресурсов и стимулов; какие узкие места в промышленных и сервисных комплексах для этого должны быть «расшиты». При этом из либерального арсенала предыдущего этапа макроэкономического регулирования, пожалуй, мало что можно позаимствовать – разве что такие инструменты, как создание кластеров.
Чтобы государственная собственность с полной силой заработала на новую экономику, необходимо ясно представлять, какие функции у этой собственности должны остаться. И здесь не обойтись без концепции стратегического развития страны на предстоящие 10–15 лет без определения приоритетных направлений, основанных на взаимодействии различных форм собственности.
Наконец-то стартовавший инвестиционный процесс с использованием средств Инвестиционного фонда, на наш взгляд, может стать куда более эффективной альтернативой бездарному складированию нефтяных сверхдоходов в непомерно раздувшемся стабилизационном фонде, достигшем 10 процентов годового внутреннего валового продукта (ВВП) России!
По оценкам журнала «Эксперт», каждый рубль государственных средств, вложенных в развитие национальной инфраструктуры, в течение последующего десятилетия может обернуться 3–4 рублями налоговых поступлений, не говоря о новых рабочих местах и доходах граждан. В российских условиях вкладывать деньги стабилизационного фонда в низкодоходные иностранные облигации, а не в модернизацию своей экономики все равно что по-плюшкински сидеть дома на голодном пайке, имея мешок денег, одновременно помогая богатым соседям.
Успехи государственного инвестирования в партнерстве с частными инвесторами в целом более точно чувствующими потребности рынка, как показывает мировой опыт, зависят от умелого выбора партнерами форм и направлений инвестиций.
Самая востребованная собственность – интеллектуальная
Конкурентоспособность современной экономики, в которой все большую долю занимает сфера услуг, зависит от достижений науки, быстрой и эффективной коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), развития передовых технологий. Нет сомнений, что в «эпоху глобализации» способность любой экономики создавать и вводить новшества приобретает большее значение, чем простое использование сырьевых ресурсов и материальных активов. И если сырьевые ресурсы и уровень технологического развития необходимы для экономического роста, то интеллектуальные ресурсы и инновационная активность определяют и обеспечивают устойчивые долгосрочные перспективы роста.
Сегодня инновационный, интеллектуальный и технологический потенциалы страны не только определяют качество и долгосрочность ее экономического роста, от них зависит и социальный прогресс общества. Мировой опыт показывает, что страны, не обладающие такими потенциалами, будут все больше маргинализоваться.
Вот почему одной из срочных задач для современной России является выработка ее инновационно-технологической политики, определяющей пути создания добавленной стоимости на базе интеллектуальных и сырьевых ресурсов, современных технологий. Она неотделима от необходимости обеспечения правовой защиты интеллектуального капитала (общества, предприятия, автора) от недобросовестной конкуренции.
Согласно исследованию, проведенному Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), капитализация активов такого рода представляет собой одну из ключевых проблем, с которыми сталкиваются страны с переходными экономиками. На наш взгляд, в России важнейшими составляющими этой проблемы являются:
-
• проведение в научно-исследовательских институтах, учреждениях науки, ФГУПах, на промышленных предприятиях комплексного аудита интеллектуального капитала (инвентаризация, идентификация и персонализация имеющихся интеллектуальных ресурсов «советского периода», а
- также результатов исследований и разработок постсоветского периода);
-
• оценка выявленного интеллектуального капитала (ресурсов, интеллектуальной собственности, нематериальных активов);
-
• создание институциональных условий для эффективной коммерциализации результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (РНТД);
-
• обеспечение баланса интересов авторов, правообладателей и использователей РНТД (как охраноспособных, так и объектов типа ноу-хау);
-
• подготовка современных менеджеров инновационной сферы ;
-
• реформация налогового законодательства в инновационной сфере с целью обеспечения для российских предприятий конкурентных условий ведения бизнеса, сравнимых с зарубежными инновационными фирмами.
В условиях недооценки, а нередко и полного игнорирования интеллектуальных активов при приватизации и реструктуризации предприятий в части инвентаризации и оценки на первое место выступают вопросы методологии, согласованного понимания ключевых терминов инновационной сферы.
За последние десятилетия термин «интеллектуальная собственность» (ИС) прочно вошел в разряд терминов, с которым вынуждены считаться все: от руководителей государства до конечных потребителей. Но полноценного, согласованного определения этого термина до сих пор нет. Выработка точного, то есть работающего, определения ИС представляет собой значительные трудности, так как необходимо обеспечить научный подход для практического использования этого термина в экономике, социологии, юриспруденции, технических областях. Эта проблема не решена и составителями проекта части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)9, кото- рый активно «проталкивается» для дальнейшего прохождения в Госдуме. В нем, в частности, вводится еще одно размытое понятие – интеллектуальные права, отсутствующее в международных соглашениях.
Один из разработчиков части 4 ГК РФ А. Маковский при презентации этого проекта в июне 2006 года так и не смог назвать развитые страны, в которых законодательство сферы интеллектуальной собственности было бы также кодифицировано в акте столь высокого уровня. Отдельные законы, регламентирующие отношения вокруг различных по природе создания объектов интеллектуальной собственности, не объединенные в гражданский кодекс, позволяют, на наш взгляд, более гибко подходить к построению общей структуры законодательства об исключительных правах. И, что не менее важно, – более просто осуществлять внесение изменений и дополнений по регламентации неурегулированных или формально урегулированных вопросов и проблем, возникающих в отношениях товаропроизводителей и потребителей в постоянно меняющемся окружении. Правообладатели в области авторского права отмечают, что положения части 4 ГК РФ в том виде, в котором она представлена, идут в разрез с международными нормами, и в случае принятия этого проекта уровень их правовой защиты может снизиться.
Очевидна связь заданной скорости принятия указанного проекта ГК РФ с желанием части российского общества как можно быстрее вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это своего рода «отступное» для США, которые, по мнению Международного альянса производителей интеллектуальной собственности (МАПИС)10, признают Россию одним из самых значительных пиратов по краже иностранной интеллектуальной собственности. Американские специалисты насаждают мнение, что контрафактная продукция не только широко распространена в России, но и активно наводняет рынки Восточной и Западной Европы. По их данным, в 2005 году потери производителей только американской интеллектуальной собственности в результате деятельности «пиратов из России» составили 1,75 миллиарда долларов, а доля незаконно произведенной интеллектуальной собственности в различных сегментах российского рынка составляет от 70 до 90 процентов.
Однако если попытаться непредвзято разобраться в этом вопросе, основываясь на определении интеллектуальной собственности в Декларации Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)11, то становится очевидным иной факт – масштабное изъятие Российского интеллектуального капитала (в основном в части объектов промышленной собственности) как в ходе приватизации, так и через другие каналы: многочисленные центры трансфера технологий, фонды и путем вывоза человеческого капитала.
Нерешенность, казалось бы, сугубо научных вопросов привела к плачевным практическим результатам. Тот факт, что в процессе приватизации не была учтена интеллектуальная собственность СССР, объясняется не только преднамеренной халатностью ее организаторов, но и тем, что эти активы просто не могли быть учтены. В СССР основной массив интеллектуального капитала был сконцентрирован в документации (технической, технологической, эксплуатационной и т. д. – КД/КТД), для учета которой существовали специальные счета в едином плане счетов бухгалтерского учета. В ходе скоротечной перестройки системы советского учета под новые экономические реалии вместо кардинальной реформации методологии бухгалтерского учета для цели учета активов различного вида, как того требуют международные стандарты, просто ввели некоторые изменения в существовавший план счетов12. В частности, для учета нематериальных активов был веден отдельный статистический счет 04 «нематериальные активы», куда попали объекты исключительных прав различной природы происхождения. Одновременно из плана счетов были выведены счета по учету документации.
В итоге объекты исключительных прав творческой природы создания (в области промышленной собственности – это изобретения и промышленные образцы по патентам и свидетельствам СССР, объекты типа ноу-хау), правообладателем которых было государство, только частично были переоформлены на предприятия в виде патентов России, став юридически интеллектуальной собственностью этих предприятий. Но такие факты были скорее исключением, чем правилом. Что касается объектов типа ноу-хау, то согласованной политики в отношении таких объектов нет – ноу-хау признано по налоговому учету и не признано по бухгалтерскому. А регламентация учета и обеспечения прав товаропроизводителей на КД/КТД вообще «повисла в воздухе», правовая неясность в отношении таких активов нематериального характера существует до сих пор и, к сожалению, никого из современных «кодификаторов» российского законодательства не волнует.
Несоответствие экономического законодательства в сфере ИС международным нормам не позволяет осуществлять капитализацию средств индивидуализации производителей, товаров, услуг. Согласно правилам российского бухгалтерского учета модный сейчас термин «бренд» (в терминологии российского законодательства – товарный знак и знак обслуживания) в отличие от практики зарубежных товаропроизводите- лей в процессе использования только уменьшает свою стоимость.
Например, на начало 2005 года в России количество подаваемых заявок на изобретения и полезные модели превышало немногим более 40 тысяч. В хозяйственном обороте страны используется примерно 0,4 процента объектов промышленной собственности – ничтожно малое количество по сравнению с развитыми странами, где этот показатель достигает 70 процентов. Но в указанное количество не входит использование КД/КТД «советского периода» и последнего десятилетия. Если провести учет этой интеллектуальной собственности, то показатель будет существенно выше чем 0,4 процента. Поэтому сегодня, кроме решения вопросов кодификации законодательства в интеллектуальной сфере, встает вопрос инвентаризации, идентификации и персонализации нематериальных ресурсов и активов с дальнейшим их введением в хозяйственный оборот в качестве объектов интеллектуальной собственности.
А пока, по данным ВОИС, из России только в США ежегодно «уплывает» до 200 научно-технических разработок. Ситуация требует быстрого разрешения, однако в 2005–2006 годах инициативы Правительства Российской Федерации по закреплению за Российской Федерацией прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств государственного бюджета, являются явно недостаточными, даже на фоне их нормотворческой избыточности.
Другие инициативы чиновников по повышению эффективности использования научных исследований и технических разработок посредством передачи ученым-разработчикам прав на результаты их деятельности также неоднозначны с точки зрения желаемого результата. Взяв за основу американский закон «The Bayh-Dole ACТ»13, который весьма благотворно сказался на росте инновационного потенциала США в 1990-е годы, российские чиновники упускают из виду тот факт, что ключевым момен- том этого закона является обязанность разработчика в полном раскрытии перед государством всех результатов научно-технической деятельности, полученных авторами за счет бюджетных средств. В случае раскрытия российскими учеными перед государством всех аспектов и направлений использования результатов научных разработок, можно лишь догадываться, как эти данные, еще не ставшие объектами исключительных прав, будут «использованы». Но, скорее всего, существенные ноу-хау не будут раскрыты, так как большинство ученых, обделенных в процессе приватизации, считает их своей интеллектуальной собственностью, своим капиталом.
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Б. Симонов считает, что права Российской Федерации на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет бюджетных средств, могут быть безвозмездно переданы авторам и научным учреждениям при условии, что передаваемая интеллектуальная собственность будет максимально использована в интересах российской экономики. Однако сегодня при отсутствии необходимого количества профессиональных менеджеров инновационной сферы функцию надзора за сохранением интересов России просто некому выполнять.
Что касается продажи патентов иностранным компаниям, что, по мнению чиновников, возможно при условии компенсации затрат бюджета на их создание, то такая мысль может родиться лишь у человека, слабо знакомого с техникой и объемом защиты обычного российского патента. Эффективная реализация патентов возможна лишь при условии получения исключительных прав по патенту России на территории лицензиата и «зонтичном патентовании». Сегодня в России и первое, и второе – скорее экзотика, чем практика. Это же касается и так называемого «принудительного лицензирования» с лишением прав неэффективного обладателя патента и передачи их эффективному использователю.
Слабая эффективность государственного управления объектами права интеллектуальной собственности, особенно результатами научно-технической деятельности и правами на них, предопределяет необходимость организации частно-государственного партнерства с этими видами собственности; формирования процесса по их передаче более эффективному собственнику, в качестве которого, очевидно, выступают автор, авторский коллектив, малое инновационное предприятие. Однако в отличие от объектов собственности материальной природы проблема передачи прав (части прав) в отношении интеллектуальной собственности усугубляется тем, что для объектов нематериальной природы (объектов права интеллектуальной собственнос- ти), кроме решения задачи персонализации объекта, необходимо решить задачу идентификации объекта собственности, что представляет собой существенные трудности для объектов информационной природы. Вот почему для эффективного создания и использования интеллектуального капитала в нарождающейся инновационной экономике России с учетом обеспечения ее равноправного участия в международном сотрудничестве, в том числе при вхождении в ВТО, необходим системный, квалифицированный подход к комплексным вопросам интеллектуальной сферы – своего рода частно-государственное партнерство по выявлению проблем и их решению законодательно-институциональными мерами.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
_____УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ»_____
Приглашают принять участие в практическом консультационном семинаре 12-15 декабря 2006 года, Москва
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
-
• земельный участок как объект недвижимости: его формирование и кадастровый учет; особенности формирования земельных участков в городах
-
• полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по управлению земельными участками
-
• правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда
-
• оценка земельных участков и прав аренды при совершении сделок по отчуждению и залоговых сделок
-
• налогообложение земли: расчет и начисление налогов
-
• способы предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, в том числе под строительство, регистрация сделок с земельными участками и прав на них
-
• особенности предоставления земельных участков в отдельных субъектах РФ
-
• землепользование государственных и муниципальных высших учебных заведений
-
• ипотека земельных участков; зарубежное законодательство об ипотеке
-
• судебная практика рассмотрения споров при приватизации земельных участков и сделках с ними Заявки на участие и подробная информация: