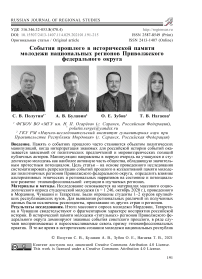События прошлого в исторической памяти молодежи национальных регионов Приволжского федерального округа
Автор: Полутин Сергей Викторович, Булавин Антон Викторович, Зубов Олег Евгеньевич, Нагаева Татьяна Викторовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 1 (114) т.29, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Память о событиях прошлого часто становится объектом политических манипуляций, когда интерпретация знаковых для российской истории событий оказывается зависимой от политических предпочтений и мировоззренческих позиций публичных акторов. Манипуляции направлены в первую очередь на учащуюся и студенческую молодежь как наиболее активную часть общества, обладающую значительным протестным потенциалом. Цель статьи - на основе проведенного исследования систематизировать репрезентации событий прошлого в коллективной памяти молодежи полиэтничных регионов Приволжского федерального округа, определить влияние альтернативных этнических и региональных нарративов на состояние и потенциальное развитие этноконфессиональной ситуации в изучаемых регионах. Материалы и методы. Исследование основывается на материалах массового социологического опроса студенческой молодежи (n = 1 246, октябрь 2020 г.), проведенного в Мордовии, Чувашии и Татарстане. Были опрошены студенты 1-2 курсов крупнейших республиканских вузов. Для выявления региональных различий из полученных данных были исключены респонденты, приехавшие из других стран и регионов. Результаты исследования. Итоги массового опроса молодежи Мордовии, Татарстана и Чувашии свидетельствуют о фрагментарном характере восприятия российской истории. В исторической памяти молодежи «титульных» регионов Приволжского федерального округа доминируют знаковые события советского прошлого, в ряде случаев воспринимаемые и переосмысливаемые сквозь призму этноконфессиональных практик. В то же время в историческом сознании молодежи национальных республик практически не фиксируются альтернативные этнические и региональные нарративы, способные негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в регионах. Обсуждение и заключение. На современном этапе во всех трех республиках региональная символическая политика памяти не вступает в принципиальное противоречие с политикой памяти федерального центра. Результаты исследования будут полезны ученым-социологам, а также общественным деятелям, занимающимся вопросами молодежной политики.
Историческая память, исторический нарратив, коллективная память, национальная политика, политика памяти, республика мордовия, республика татарстан, чувашская республика, символическая политика, этническая идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147222874
IDR: 147222874 | УДК: 316.346.32-053.8(470.4) | DOI: 10.15507/2413-1407.114.029.202101.191-215
Текст научной статьи События прошлого в исторической памяти молодежи национальных регионов Приволжского федерального округа
The authors declare that there is no conflict of interest.
Funding. The article was done with the financial support from the Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 20-011-31319 opn “Historical Memory and Identity: Features of the Formation of Historical Narratives Among Young People in the Ethnic Republics of the Volga Federal District”).
Введение. Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался не только масштабными процессами социально-экономических, геополитических и культурных трансформаций на постсоветском пространстве, но и последовавшими вслед за этим значительными изменениями традиционных социальных норм и ценностей, а также сформировавшихся в советское время исторических нарративов. Катализатором процессов трансформации исторической памяти стал распад СССР, когда в большинстве новообразованных государств постсоветского пространства и в ряде республик Российской Федерации разрушилось единое идеологическое поле исторической науки, что открыло возможности для пересмотра многих ключевых событий прошлого. Политические элиты (как центральные, так и региональные), утратив контроль за информационным и культурно-образовательным полем, оказались неспособны быстро определиться с новой государственной исторической политикой, которая бы отвечала требованиям времени. По мере усиления напряженности, вызванной нарастанием социально-экономических трудностей, одним из ресурсов легитимации власти и обоснования преференций для представителей различных этноконфессиональных сообществ становится манипулирование историческими данными. В результате процесс формирования общероссийской гражданской идентичности в постсоветской России долгое время носил крайне противоречивый характер, а становление идентификационных представлений молодого поколения россиян происходило под влиянием ситуативных факторов и при отсутствии притягательного для молодежи «образа бу- дущего». Тем не менее, несмотря на все сложности процессов, протекающих в символической политике государства, ощущение единой общегражданской идентичности в массовом сознании россиян, согласно Л. М. Дробижевой, сложилось [1]. Однако «процессу дальнейшей консолидации российского общества… препятствует сегментарное восприятие смыслов гражданской идентичности, которое не преодолено даже в экспертном сообществе, призванном формировать и транслировать их» [2, с. 19].
В настоящее время, по мнению О. Ю. Малиновой, в «историческом пространстве» страны закрепилось три основных конкурирующих версии исторического нарратива, которые во многом повторяют структуру политических позиций в российском обществе – левые, либералы-западники и «традиционалисты», имеющие свою идентичность с включением элементов исторической памяти и трактующие события прошлого исходя из политических предпочтений. Несмотря на предпринимаемые властями усилия, создание нового исторического нарратива, способного консолидировать основной спектр политических сил и этноконфессиональных сообществ, сталкивается с серьезными трудностями [3]. В первую очередь это вызвано отсутствием четкого видения прошлого нашей страны, что усиливает проблему конкуренции различных версий интерпретации прошлого и их влияния на коллективную память, тем самым способствуя появлению новых прочтений истории и актуализируя новые смыслы, формирующие негативное восприятие общественных процессов в настоящем.
В этой связи особый интерес представляет анализ репрезентаций событий прошлого в коллективной памяти жителей полиэтничных регионов Российской Федерации, поскольку именно интерпретация в том или ином ключе «исторических травм» часто выступает в качестве повода для роста этноконфессиональной напряженности. Ситуация в Приволжском федеральном округе интересна и тем, что данный регион имеет давнюю историю существования в пределах Российского государства и отличается сложным этническим составом населения; на территории региона сосуществуют последователи двух мировых религий – православные и мусульмане. Все это обусловливает необходимость изучения исторической памяти на регулярной основе при помощи социологических методов, что позволяет получить четкую картину и систематизировать данные о доминировании тех или иных исторических суждений, а также динамику их изменений.
Неслучаен и выбор эмпирического объекта исследования – студенческая молодежь, которая выступает не только активным игроком на поле информационного пространства, заполненного в том числе альтернативными, часто упрощенными или фальсифицированными, версиями исторических событий, но и является прямым объектом манипулирования. Принимая во внимание тот факт, что студенчество потенциально выступает кадровой основой формирования этнополитических элит, исследование ее установок и ценностных ориентаций в сфере исторической памяти имеет практическое значение.
Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования изучить текущее состояние исторической памяти в общественном сознании молодежи, проживающей на территории «титульных» субъектов Приволжского федерального округа, определить региональную специфику, а также выявить конфликтогенный потенциал этнических и региональных нарративов в исследуемых регионах.
Обзор литературы. В последние годы зарубежными и отечественными учеными накоплен значительный опыт методологического осмысления проблем исторической памяти и ее конкретно-исторических реконструкций. Актуализация дискурса идет в нескольких направлениях, которые предопределены логикой исторических процессов.
Внимание зарубежных специалистов в первую очередь акцентируется на изучении теоретических проблем1, а также на исследованиях массовых представлений о знаковых событиях в истории, ставших впоследствии одним из ключевых элементов нациестроительства и легитимации власти, поскольку, как отмечает Й. Рюзен, «сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего»2. Так, одним их основных направлений исследования исторической памяти в странах Западной Европы стал анализ процессов трансформации общественных представлений о событиях и итогах Первой и Второй мировых войн (эту тему разрабатывали Л. Браун [4], Д. Крейг [5], К. Джеффери [6]), а также переосмысление и репрезентация связанных с ними исторических травм3.
Кроме того, с конца 1980-х гг. процессы социальной трансформации на постсоветском пространстве способствовали значительному росту числа исследований, посвященных изучению различных аспектов взаимосвязи исторической памяти и коллективной идентичности [7; 8]. Так как, по словам М. Кастельса, «в исторический период, характеризуемый широко распространенным деструктурированием организаций, делегитимизацией институтов, угасанием крупных общественных движений и эфемерностью культурных проявлений, идентичность становится главным, а иногда и единственным источником смыслов»4.
В свою очередь, поиск новой, объединяющей граждан в единое целое гражданской идентичности часто опирается на символическую основу. Так, по мнению Э. Смита, «нациям необходимо обращаться к мифам и прошлому, чтобы доказывать свою исключительность, подтверждать свою коллек- тивную “индивидуальность” в каждом поколении через ритуалы, церемонии, политические мифы и символы, искусство и историю»5. В этой связи стоит отметь публикации Л. Браун, посвященные стратегиям кеммеморации и ритуальным практикам в области исторической политики [4; 9].
В последние десятилетия в зарубежной литературе также все более заметная роль отводится исследованиям, в которых акцентируется внимание на проблематике взаимосвязи коллективных представлений о прошлом и национальной (этнической) идентичности [10; 11]. Это неслучайно, по словам А. Ассман, опора на этноконфессиональную идентификацию является основным способом компенсации утраты мировоззренческих установок, заложенных советской системой, так как «в противоположность многоголосой социальной памяти, которая является памятью “снизу” и которая вновь и вновь исчезает со сменой поколений, национальная память оказывается долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией, которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество “сверху”»6.
С конца прошлого столетия в отечественной в зарубежной литературе начинается активное изучение влияния коллективной памяти и ее интерпретации на внешнюю политику и отношения между государствами и народами [12–14]. Среди отечественных исследований, посвященных проблематике исторической памяти и ее применения в «политике памяти», «политике идентичности» и «символической политике», следует отметить работы О. Ю. Мали-новой7 [3], Л. П. Репиной8 [15], В. С. Садовой [16], В. В. Титова9 [17], Ж. Т. То-щенко [18], В. А. Шнирельмана [19], В. А. Тишкова, Ю. П. Шабаева [20]. Анализу практик формирования и артикуляции официального исторического нарратива в современной России посвящены публикации В. А. Ачкасова [12], О. Ю. Малиновой [3], Л. П. Репиной [15].
Ряд социологических исследований рассматривает вопросы формирования исторической памяти студенческой молодежи. Среди последних можно отметить работы Т. В. Евгеньевой и А. В. Селезневой [21], Т. М. Дадаевой [22], Ж. В. Пузановой и соавторов [23], Г. С. Широкаловой [24] и др. Проблемы, специфика и трансформация общегражданской российской идентичности в постсоветский период неоднократно отражены в публикациях Л. М. Дробижевой [1; 2].
Отдельного внимания в рамках нашего исследования заслуживают работы, анализирующие проблемы функционирования исторической памяти с учетом региональной особенности Приволжского федерального округа и входящих в его состав национальных республик. Здесь можно упомянуть исследования О. В. Богатовой [25], М. В. Кирчанова [26], Г. И. Макаровой [27] и др. Так, по словам К. А. Озеровой, в Республике Татарстан к настоящему времени сложились две основные группы – «татаристы» и «булгаристы», «которые придерживаются разных точек зрения о предках современных татар» [28, с. 130]. В Республике Мордовия продолжается начатая в еще конце 1980-х гг. попытка конструирования особой эрзянской идентичности, опирающаяся на собственную репрезентацию исторических событий и неоязыческие коммеморативные практики [25]. В Чувашии, как утверждает М. В. Кирчанов, в настоящее время сосуществуют и функционируют как академические исторические нарративы, так и неакадемические, «связанные с попытками последовательной национализации и этнизации исторического процесса» [26, с. 106].
Вместе с тем стоит отметить, что комплексного исследования, посвященного проблемам функционирования исторической памяти среди молодежи Приволжского федерального округа, на данный момент не существует.
Материалы и методы. В целях изучения региональных особенностей структуры и механизмов формирования исторической памяти студенческой молодежи в исследовании использованы данные межрегионального социологического опроса студенческой молодежи, проведенного в октябре 2020 г. в форме онлайн-анкетирования в трех субъектах Приволжского федерального округа: в Мордовии (n = 414), в Татарстане (n = 417) и Чувашии (n = 416).
Были опрошены студенты очники 1–2 курсов крупнейших республиканских вузов (Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, Казанского федерального университета). Структуры выборочной совокупности опрошенных в каждом регионе сопоставимы по полу и профилю подготовки (были перевзвешены в равных пропорциях). Из массива данных исключены ответы респондентов, не являющихся коренными жителями указанных регионов.
Математическая обработка полученных данных проведена с помощью стандартного пакета прикладных программ SPSS 21.0 для Windows. При анализе двумерных зависимостей использовался критерий хи-квадрат (χ2).
В процессе исследования применялись методы системного подхода, институционального анализа, которые позволили исследовать современные концептуальные модели и практики формирования исторической памяти молодежи на уровне регионального социума.
Результаты исследования. Полученные данные показывают, что для большей части опрошенной студенческой молодежи всех трех республик характерна общероссийская гражданская идентичность – более трети посчита-
- ли себя в первую очередь гражданами Российской Федерации, еще примерно столько же респондентов указали на равную значимость статуса гражданина республики и гражданина России; лишь десятая часть опрошенных поставила свою региональную идентичность выше государственной (табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Распределение ответов на вопрос «К какой государственности Вы себя относите в первую очередь?», %
T a b l e 1. Distribution of answers to the question “Which statehood do you primarily identify with?”, %
|
Вариант ответа / Answer option |
Мордовия / Mordovia |
Татарстан / Tatarstan |
Чувашия / Chuvashia |
|
Считаю себя в первую очередь россиянином / I consider myself first and foremost a Russian citizen |
42 |
43 |
36 |
|
Считаю себя в первую очередь жителем Республики / I consider myself first and foremost a resident of the Republic |
8 |
12 |
11 |
|
Считаю себя в равной степени гражданином России и Республики / I consider myself equally a citizen of Russia and of the Republic |
30 |
23 |
34 |
|
Считаю себя гражданином мира / I consider myself a citizen of the world |
12 |
17 |
13 |
|
Смотря где нахожусь / It depends on where I am |
5 |
1 |
1 |
|
Другое / Other |
1 |
2 |
1 |
|
Затрудняюсь ответить / Not sure |
2 |
2 |
4 |
|
Итого / Total |
100 |
100 |
100 |
Результаты опроса студенческой молодежи коррелируют с массовыми опросами населения России, согласно которым общероссийская гражданская идентичность сейчас превалирует, гармонично сочетаясь с этнической и региональной [1]. Тем не менее понятие «гражданина Российской Федерации» в сознании опрошенной молодежи еще недостаточно нагружено смыслами, оно скорее номинальное, основывается в первую очередь на общности территории, а не на общей культуре или историческом прошлом (табл. 2).
В целях выявления значимых и консолидирующих для студенческой молодежи исторических событий респондентам был задан вопрос «Какие исторические события вызывают у вас гордость за то, что Вы являетесь гражданином России?» (табл. 3). Согласно полученным результатам, в исторической памяти молодежи, проживающей в титульных республиках Приволжского федерального округа, наиболее востребованным символическим ресурсом являются знаковые события советского прошлого: в первую очередь это победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., освоение космоса и полет Ю. А. Гагарина.

the answers in the columns does not equal 100 %, because according to the methodology of the survey it was possible to choose several options.
Данные варианты ответа значимо преобладали у большинства опрошенных, независимо от пола, региона проживания, образования и национальной принадлежности. Это объясняется тем, что в последние годы в российском информационном пространстве наблюдается активное использование советского символического ресурса, примером чему служат приуроченные к юбилеям фильмы «Т-34», «28 панфиловцев», «Битва за Севастополь», «Гагарин. Первый в космосе», «Салют 7», «Время первых». Прочие события, связанные с советской историей (такие как создание СССР и революция 1917 г.) у большей части молодежи не отрефлексированы и чувство гордости не взывают.
В исторической памяти народа сохраняются не только военные победы и научные достижения, но и определенные исторические травмы – поражения в войнах, массовые репрессии и другие социальные потрясения, принесшие существенные человеческие и материальные потери. Эти события могут служить источником для негативного отношения к своей стране или каким-либо социальным и этноконфессиональным группам. С целью определения ключевых исторических событий, имеющих негативное восприятие в общественном сознании, респондентам был задан вопрос «Какие исторические события заставляют вас сожалеть о том, что Вы являетесь гражданином России?» (табл. 4).
Источником исторических травм для студенческой молодежи служат такие события российской истории, как убийство царской семьи, раскулачивание и период сталинских репрессий 1930-х гг. В общественном сознании сохраняется негативное восприятие участия граждан в локальных конфликтах, таких как война в Афганистане и Чечне, а также распад СССР. Тем не менее, несмотря на наличие общих тенденций, существуют и региональные различия. В частности, в Мордовии и Чувашии процент выбравших ответ «убийство царской семьи» значительно выше, чем в Татарстане, что, на наш взгляд, вызвано преобладанием в данных регионах граждан, исповедующих православие.
Анализ событий, которые отмечались респондентами реже всего, позволяет дифференцировать их на две группы. В первую входит большинство событий отечественной истории периода Средневековья и Нового времени. Так, лишь 11 % от числа опрошенных жителей Татарстана в качестве «исторической травмы» указали монголо-татарское нашествие и ордынское иго (в Мордовии и Чувашии этот процент оказался еще меньше), а призвание варягов - только 5 % опрошенных в Республике Мордовия и 3 % - в республиках Татарстан и Чувашия.
Во вторую группу входят так называемые контр-нарративы, связанные с альтернативными точками зрения на события Новейшей истории. В последние годы некоторыми политическими деятелями (в первую очередь зарубежными) и масс-медиа продвигается идея возложения ответственности на начало Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на СССР. Обоснованием для этого чаще всего служит заключение пакта Молотова – Риббентропа. Однако в общественном сознании молодежи данное событие практически не представлено, его отметили лишь 6 %.
Т а б л и ц а 4. Распределение ответов на вопрос «Какие исторические события заставляют вас сожалеть о том, что Вы являетесь гражданином России?», % T a b l e 4. Distribution of answers to the question “What historical events make you regret that you are a citizen of
Russia?”, %
Присоединение Крыма / Accession of Crimea 2 5 5 14 2 7
Ордынское иго / Horde Yoke 2 7 4 11 3 8
Революция 1917 г. / Revolution of 1917 3 9 2 6 3 9

В целом, говоря об исторической памяти российского студенчества, следует отметить достаточно слабую событийную наполненность и мозаичность. В связи с этим важной задачей является определение основных источников формирования исторических представлений и репрезентации исторических событий среди молодежи, для чего респондентам был задан вопрос «Из каких источников Вы в основном получаете информацию об истории России?». Тройка лидеров во всех регионах остается неизменной. На первом месте ожидаемо оказались «уроки в школе, техникуме, вузе», второе и третье место поделили интернет и кинематограф. Таким образом, оценки молодежью тех или иных исторических событий опосредованы современными способами коммуникации (в первую очередь интернетом), «которые способствуют не только распространению научных знаний и тиражированию произведений искусства, но и мифов, идеологических и пропагандистских штампов» [29, c. 283]. Это усиливает конфликтное восприятие некоторых исторических образов в массовом сознании молодежи.
О наличии конфликтующих нарративов в исторической памяти студентов свидетельствуют ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы в своей жизни с конфликтными ситуациями, обусловленными разницей восприятия исторических событий, различными толкованиями истории?». Практически половина опрошенных утвердительно ответила на этот вопрос (табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы в своей жизни с конфликтными ситуациями, обусловленными разницей восприятия исторических событий, различными толкованиями истории?», %
T a b l e 5. Distribution of answers to the question “Have you ever encountered conflict situations due to different perceptions of historical events, different interpretations of history?”, %
|
Вариант ответа / Answer option |
Мордовия / Mordovia |
Татарстан / Tatarstan |
Чувашия / Chuvashia |
|
Постоянно / Repeatedly |
13 |
10 |
6 |
|
Иногда / Sometimes |
37 |
26 |
21 |
|
Однажды / Once |
6 |
10 |
7 |
|
Никогда / Never |
44 |
54 |
66 |
|
Итого / Total |
100 |
100 |
100 |
Анализ неформализованных ответов показывает, что чаще всего конфликтность провоцирует альтернативная репрезентация истории Второй мировой войны (особенно в странах Запада), данную тему опрошенные называют независимо от региона проживания. Также источником конфликтов выступают обсуждения событий на Украине и присоединения Крыма. В то же время противоречия в трактовках региональной истории практически не
^Qu РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 29, № 1, 2021 У^У -упоминаются ни в одном из регионов. Это говорит о достаточно слабой вовлеченности студенчества в существующий на уровне национальных элит протестный дискурс, что лишает этнических активистов социальной базы для привлечения сторонников.
Аналогичные результаты в отношении национальной истории «титульных» республик были получены и другими отечественными исследователями. В частности, анализируя данные массового опроса жителей Казани (n = 1 000) Н. И. Карбаинов приходит к выводу, что «большинство казанцев испытывают достаточно мало эмоциональных переживаний в связи с историей Волжской Булгарии, в отличие от событий XX в.» [30, c. 124]. В качестве причин он называет, во-первых, отдаленность событий Волжской Булгарии по времени, что делает их «бесполезными в повседневной жизни», во-вторых, недостаточную «конкурентноспособность» предлагаемой национальными элитами идеологии в сравнении с идеологией, предлагаемой федеральным центром [30].
Каковы же основные источники формирования исторической памяти и исторических нарративов студенческой молодежи на уровне региона? Как мы можем видеть из данных нашего опроса, в настоящее время главным источником исторических знаний о регионе у молодежи является официальный дискурс в рамках системы образования. Художественное творчество (литература, кинематограф) не имеет таких высоких позиций, как риторика федерального центра. Зато на первый план, потеснив позиции интернета, выходит семейная память (табл. 6).
Если говорить о региональных различиях, то здесь прослеживается разница возможностей трех республик производить качественный исторический контент – максимальное разнообразие коммеморативных практик скорее характерно для экономически более успешного Татарстана (в среднем 4–5 выборов у одного респондента), чем для Мордовии и Чувашии, возможности региональных коммемораций которых ограничены.
В целом можно сделать вывод, что на современном этапе во всех трех республиках региональная символическая политика памяти не вступает в принципиальное противоречие с политикой памяти федерального центра. Большинство опрошенной студенческой молодежи транслирует достаточно бедный по своему содержанию, но цельный перечень нарративов, полностью совпадающий с официальным. Дискуссионные моменты возникают в двух случаях: во-первых, когда единая трактовка какого-либо периода или события на уровне федерального центра отсутствует (например, отношение к революции 1917 г. или распаду СССР); во-вторых, когда вступают в противоречия исторические нарративы соседних регионов. Характерным примером могут служить ответы на вопрос «С какого периода, события, по вашему мнению, начинается история Вашей республики?». Так, период Волжской Булгарии оказался точкой отсчета в истории региона для 38 % студентов родом из Чувашии и для 34 % студентов из Татарстана. Не первый год длящиеся на уров-
не национальных элит Чувашии и Татарстана «войны памяти»10 постепенно внедряются в массовое сознание.
Обсуждение и заключение. Начавшиеся в нашей стране в конце 1980-х гг. процессы социально-политической и экономической трансформации послужили истоком для смены ключевых ценностных ориентиров, представлений идеалов, серьезно отразившись на историческом сознании большинства жителей постсоветского пространства. Публичные дискуссии на политических трибунах, телевидении, страницах газет и журналов, а впоследствии и в интернете о трактовке тех или иных исторических событий и периодов российской истории оказали существенное влияние на мировоззрение представителей всех слоев населения. В результате многие аспекты исторического пути России повергались неоднократной интерпретации в угоду каким-либо политическим акторам и, в отдельных случаях, служили поводом для роста этноконфессиональной напряженности, особенно в многонациональных регионах Российской Федерации.
Как показывают результаты проведенного социологического исследования, несмотря на многочисленные попытки переоценки событий общего российского прошлого, большинство опрошенных демонстрируют солидарность в оценке основных поворотных моментов в истории нашей страны. В частности, советский период отечественной истории рассматривается современной молодежью как период выдающихся достижений, которые оказали огромное влияние на ход мировой истории. В первую очередь это победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и научно-технические достижения СССР, связанные с освоением космоса.
Едины респонденты и в оценке травмирующих исторических событий. Студентам чаще свойственно отрицательное восприятие событий, протекавших в недалеком прошлом или настоящем. Наиболее негативно молодежь относится периоду реформ 30-х гг. XX в., связанных с массовыми репрессиями и раскулачиванием, а также расстрелу Николая II и его семьи.
В общественном сознании молодого поколения практически не фиксируются альтернативные этнические и региональные нарративы, способные негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию. Однако сохраняющаяся неопределенность в трактовке ряда исторических периодов в федеральной и региональной символической политике по-прежнему оставляет возможности для попыток создания в региональном социуме исторических контр-нарративов, что может отрицательно сказаться на процессе формирования общегражданской российской идентичности и гармонизации этнокон-фессиональных процессов в нашей стране.
Результаты, полученные в рамках исследования, дают возможность эмпирической верификации современных концептуальных моделей историче- ской памяти на уровне регионального социума, что, в свою очередь, позволит внести определенные коррективы в формирование системы патриотического воспитания молодежи. Результаты социологического исследования демонстрируют взаимное влияние различных факторов коллективной памяти: институциональных – образования, средств массовой информации и массовой культуры, институционализированных коммеморативных практик и региональной инфраструктуры памяти, – с одной стороны, и неинституциональных – воспоминаний членов семьи и родственников, влияния ближайшего окружения – с другой. Однако вопрос о степени и содержании влияния индивидуальной памяти (семейных воспоминаний) на конструирование идентичности студенческой молодежи остается открытым и нуждается в дальнейшем изучении при помощи качественных социологических методов.
Список литературы События прошлого в исторической памяти молодежи национальных регионов Приволжского федерального округа
- Дробижева, Л. М. Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения / Л. М. Дробижева. - DOI 10.31857/S013216250009460-9 // Социологические исследования. - 2020. - Т. 8, № 8. - С. 37-50. - URL: https://ras.jes.su/socis/ s013216250009460-9-1 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Дробижева, Л. М. Российская идентичность и согласие в межэтнических отношениях: опыт 20 лет реформ / Л. М. Дробижева // Вестник российской нации. -2012. - № 4-5. - С. 17-34. - URL: http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2013/12/ Титулы-Вестник-РН-N^4-5-2012.pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Малинова, О. Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам / О. Ю. Малинова. - DOI 10.17976/ jpps/2016.06.10 // Полис. Политические исследования. - 2016. - № 6. - С. 139-158. -URL: https://www.politstudies.ru/article/5204 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Brown, L. Memorials to the Victims of Nazism: The Impact on Tourists in Berlin / L. Brown. - DOI 10.1080/14766825.2014.946423 // Journal of Tourism and Cultural Change. - 2015. - Vol. 13, issue 3. - Pp. 244-260. - URL: https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/14766825.2014.946423 (дата обращения: 22.10.2020).
- Craig, D. Commemoration in the United States: "The Reason for Fighting I Never Got Straight" / D. Craig. - DOI 10.1080/10361146.2015.1079944 // Australian Journal of Political Science. - 2015. - Vol. 50, issue 3. - Pp. 568-575. - URL: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/10361146.2015.1079944 (дата обращения: 22.10.2020).
- Jeffery, K. Commemoration in the United Kingdom: A Multitude of Memories / K. Jeffery. - DOI 10.1080/10361146.2015.1079943 // Australian Journal of Political Science. - 2015. - Vol. 50, issue 3. - Pp. 562-567. - URL: https://www.tandfonline.com/doi/full /10.1080/10361146.2015.1079943 (дата обращения: 22.10.2020).
- Bell, D. S. A. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity / D. S. A. Bell. -DOI 10.1080/0007131032000045905 // British Journal of Sociology. - 2003. - Vol. 54, issue 1. - Pp. 63-81. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12745819/ (дата обращения: 22.10.2020).
- Misztal, B. A. The Sacralization of Memory / B. A. Misztal. - DOI 10.1177/1368431004040020 // European Journal of Social Theory. - 2004. - Vol. 7, issue 1. - Pp. 67-84. - URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431004040020 (дата обращения: 22.10.2020).
- Brown, L. Commemoration and the Expression of Political Identity / L. Brown, K. A. Ibarra. - DOI 10.1016/j.tourman.2018.03.002 // Tourism Management. - 2018. -Vol. 68. - Pp. 79-88. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0261517718300463 (дата обращения: 22.10.2020).
- Bandyopadhyay, R. Religion and Identity in India's Heritage Tourism / R. Bandyop-adhyay, D. B. Morais, G. Chick. - DOI 10.1016/j.annals.2008.06.004 // Annals of Tourism Research. - 2008. - Vol. 35, issue 3. - Pp. 790-808. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0160738308000534?via%3Dihub (дата обращения: 22.10.2020).
- Beaumont, J. Commemoration in Australia: A Memory Orgy? / J. Beaumont. -DOI 10.1080/10361146.2015.1079939 // Australian Journal of Political Science. - 2015. -Vol. 50, issue 3. - Pp. 536-544. - URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/103 61146.2015.1079939 (дата обращения: 22.10.2020).
- Ачкасов, В. А. Дискурс постколониализма в политике памяти постсоветских государств / В. А. Ачкасов. - DOI 10.17223/15617793/440/20 // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - № 440. - С. 146-152. - URL: http://journals.tsu.ru/vest-nik/&journal_page=archive&id=1822&artide_id=40566 (дата обращения: 22.10.2020). -Рез. англ.
- Миллер, А. И. Политика памяти и историческая наука / А. И. Миллер, О. Ю. Малинова, Д. В. Ефременко. - DOI 10.31857/S086956870001569-6 // Российская история. - 2018. - № 5. - С. 128-140. - URL: https://ras.jes.su/rushistory/s207987840000807-6-1 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Langenbacher, E. Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations / E. Langenbacher // Power and the Past. Collective Memory and International Relations. - Washington : Georgetown University Press., 2010. - Pp. 13-49. - URL: https://wwwjstor.org/stable/j.ctt2tt597 (дата обращения: 22.10.2020).
- Репина, Л. П. Между фактом и символом: исторические события в макроструктуре национально-государственного нарратива / Л. П. Репина. - DOI 10.26907/2541-7738.2019.2-3.9-23 // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2019. - Т. 161, № 2-3. - С. 9-23. - URL: https://kpfu.ru/portal/ docs/F_2124117177/161_2_3_gum_1.pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Садовая, В. С. Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности / В. С. Садовая. - DOI 10.17976/jpps/2016.04.05 // Полис. - 2016. - № 4. -C. 41-53. - URL: https://www.politstudies.ru/article/5152 (дата обращения: 22.10.2020). -Рез. англ.
- Титов, В. В. Российская национально-государственная идентичность: социокультурные императивы трансформации / В. В. Титов. - DOI 10.26794/2226-78672019-9-3-13-17 // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. - 2019. -№ 3 (39). - С. 13-17. - URL: https://humanities.fa.ru/jour/article/view/329 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Тощенко, Ж. Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния / Ж. Т. Тощенко // Новая и новейшая история. - 2000. - № 4. - URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM (дата обращения: 22.10.2020).
- Шнирельман, В. А. Социальная память и образы прошлого / В. А. Шнирель-ман // Новое прошлое. - 2016. - № 1. - С. 100-129. - URL: https://newpast.sfedu.ru/ archive/chtoby-pomnüi-1-2016/stat%27ya-6/ (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Тишков, В. А. Историческая память: форм сохранения, конструирования и презентации / В. А. Тишков, Ю. П. Шабаев. - DOI 10.19110/1994-5655-2019-4-62-71 // Известия Коми научного центра УрО РАН. - 2019. - № 4 (40). - С. 62-71. - URL: http://www.izvestia.komisc.ru/images/Archive/2019/40/TISHKOV.pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Евгеньева, Т. В. Трансформация национально-государственной идентичности российской молодежи в постсоветский период: ценностные основания и символические репрезентации / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. - DOI 10.30570/2078-50892017-87-4-48-64 // Полития. - 2017. - № 4 (87). - С. 48-64. - URL: http://politeia.ru/ files/articles/rus/Politeia-2017-4(87)-48-64.pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Дадаева, Т. М. Образование, историческая память и гражданская идентичность: векторы влияния (на примере студенческой молодежи вузов и ссузов Республики Мордовия) / Т. М. Дадаева. - DOI 10.15507/2078-9823.049.020.202001.041-060 // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. - 2020. - Т. 20, № 1. - С. 41-60. - URL: http://jg.isi.mrsu.ru/assets/gumanitary_2020_49_3.pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Типология исторической памяти о Второй мировой войне: методологические аспекты изучения (на примере студенчества РУДН) / Ж. В. Пузанова, Н. П. Нарбут, Т. И. Ларина, А. Г. Тертышникова. - DOI 10.22363/2313-2272-2020-20-2-292-306 // Вестник РУДН. Серия: Социология. - 2020. - № 2. - С. 292-306. - URL: http://journals. rudn.ru/sociology/article/view/23871 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Широкалова, Г. С. Историческая память молодежи: село vs город / Г. С. Ши-рокалова. - DOI 10.31857/S013216250010005-8 // Социологические исследования. -2020. - № 9. - С. 28-37. - URL: https://ras.jes.su/socis/s013216250010005-8-1 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Богатова, О. А. Присвоение исторических ландшафтов в процессе конструирования новых сакральных пространств в контексте региональной политики идентичности / О. А. Богатова // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2016. - № 4. - С. 125-138. - URL: http://www.historystudies.msu. ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/67 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Кирчанов, М. В. «Большие нарративы» чувашского исторического воображения / М. В. Кирчанов // Проблемы социальных и гуманитарных наук. - 2020. - № 2 (23). - С. 101-114. - URL: https://clck.ru/TFprv (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Макарова, Г. И. Татарстан в видении элит и простых жителей республики / Г. И. Макарова. - DOI 10.31119/jssa.2018.21.2.3 // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2018. - № 2. - С. 75-105. - URL: http://jourssa.ru/?q=ru/Makaro-va_2018_2_Article (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Озерова, К. А. Наследие Волжской Булгарии и региональная идентичность: политика памяти и «изобретение» традиций / К. А. Озерова. - DOI 10.17748/2075-99082018-10-2/2-127-132 // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2018. - № 2/2. - С. 127-132. - URL: https://www.hist-edu.ru/index.php/hist/artide/view/3031 (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Мазур, Л. Н. Образы сельской истории в советском художественном кинематографе 1920-1991 гг.: опыт количественного анализа / Л. Н. Мазур // Диалог со временем. - 2013. - № 43. - С. 282-302. - URL: https://roii.ru/publications/dialogue/ artide/43_20/mazur_Ln./fte-images-of-rural-history-in-soviet-cinema-of-1920-1991-quan-titative-analysis (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.
- Карбаинов, Н. И. Образы истории Волжской Булгарии в пост-советском Татарстане: версия элит и массовые представления / Н. И. Карбаинов. - DOI 10.31119/ pe.2019.6.2.4 // Власть и элиты. - 2019. - Т. 6, № 2. - С. 107-133. - URL: http://socinst. ru/wp-content/uploads/base/journals/text/powerandelites/vlast-i-elity_2019_6_2_107-133. pdf (дата обращения: 22.10.2020). - Рез. англ.