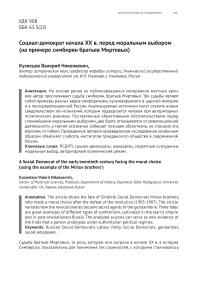Социал-демократ начала ХХ в. перед моральным выбором (на примере симбирян братьев Миртовых)
Автор: Кузнецов Валерий Николаевич
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Исторические исследования
Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
На основе ранее не публиковавшихся материалов местных архивов автор прослеживает судьбу симбирян, братьев Миртовых. Три судьбы являют собой примеры разных видов конформизма, культивируемого в царской империи и в послереволюционной России. Анализируемые источники могут служить новым свидетельством тех испытаний, которым подвергается человек при авторитарных политических режимах. Поставленные объективными обстоятельствами перед сложнейшими моральными выборами, два брата отказываются от революционной деятельности, а третий осознанно избирает позицию абсентизма, не спасшую его, впрочем, от гибели. Проведенное автором краеведческое исследование косвенным образом объясняет слабость институтов гражданского общества в современной России.
Рсдрп, социал-демократы, жандармы, секретные сотрудники, моральный выбор, авторитарный политический режим
Короткий адрес: https://sciup.org/14219756
IDR: 14219756 | УДК: 908
Текст научной статьи Социал-демократ начала ХХ в. перед моральным выбором (на примере симбирян братьев Миртовых)
Судьба братьев Миртовых, та роль, которую они сыграли в начале ХХ в. в истории Симбирска, показательна для понимания тех сложностей, с которыми сталкивалось и которые преодолевало революционное движение в России указанного периода. Немалая часть из этого актуальна и в наше время.
Исследование построено на основе ранее не публиковавшихся материалов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, Государственного архива Ульяновской области, Книги памяти жертв политических репрессий, Памятной книжки и адрес-календаря Симбирской губернии 1902 года. Проанализированы опубликованные: воспоминания Рябикова В.В., обзор источников, свидетельствующих о работе симбирской группы РСДРП.
История симбирян Миртовых не вполне типична, но показательна и поучительна. Она доказывает неизбежность ситуации морального выбора, который надо делать вступившим на путь борьбы с властью в условиях авторитарного политического режима. Братья Миртовы искренне не принимали существующих в Российской империи порядков, сочувствовали положению эксплуатируемых низов, стремились изменить положение вещей к лучшему, участвовать в борьбе за светлое будущее, но всё вышло сложнее и трагичнее.
Их было три брата: Сергей (род. 1885), Алексей (род. 1886) и Дмитрий (род. 1889) Васильковичи Миртовы, родившиеся в Симбирске в семье преподавателя географии и арифметики Симбирского духовного училища. Отец их, Миртов Васильк Александрович, происходил, о чем говорила и его фамилия, из духовного звания, получил образование в Казанской духовной академии, которую окончил в 1876 г., родом был из Владимирской губернии. Проживала семья в Симбирске в доме № 19 по Панской улице [Памятная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии 1902: 67].
Братья были, несомненно, талантливы. Алексей учился в Симбирской классической мужской гимназии, с шестнадцати лет занимался репетиторством: учил латыни и грамматике русского языка. В 1906 г. он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета.
Сергей обучался в Симбирском духовном училище и Симбирской духовной семинарии, но не закончил ее по болезни, занимался, как, отмечалось в жандармских документах, «литературным трудом».
Поступая в соответствии со своими убеждениями, Сергей и Алексей становятся членами РСДРП. Этот выбор требовал мужества. Власти, официально именуя эту, как и другие революционные организации, «преступным сообществом», карали за сам доказанный факт принадлежности к ней, что уже грозило, во-первых, ссылкой или тюрьмой, во-вторых, значительно затрудняло продвижение по социальной лестнице. Первым вступил в партию Алексей, а под его влиянием в декабре 1905 г. - и Сергей, которого брат познакомил с местными членами РСДРП. В организации Сергей стал пропагандистом. Как вспоминал позднее В.В. Рябиков, «коллегии пропагандистов комитет придавал большое значение и отбирал для этой работы наиболее сильных в теоретическом отношении товарищей». Помимо него в коллегию входили такие крупные местные социал-демократы, как Ю.А. Кролюницкий, П.Д. Винокуров, А.А. Георгиевский, Г. Рождественский, В.В. Орлов [Рябиков 1925: 40]. Алексей входил в руководство ячейки ученических организаций, работавшей под руководством комитета РСДРП. Учащиеся издавали журнал и имели кружки самообразования, которыми руководил Д.И. Ульянов. Кроме того, А. Миртов входил в аграрную группу, члены которой разъезжали по деревням, участвовали в крестьянских собраниях, вели партийную работу среди крестьян.
Оба брата были отличными партийными ораторами. Летом 1906 г. социал-демократы почти легально (губернией тогда управлял либеральный Л.В. Яшвиль) проводили массовки в Обрезковом саду на волжском спуске в Киндяковке, где одним из самых ярких, «горячих» ораторов выступал А. Миртов. Сергей часто и не менее красноречиво выступал в «старых», бывших уланских казармах. У братьев и партийные клички были схожими: Алексей – «Кованый», Сергей – «Кожаный».
К 1907 г. в симбирской организации РСДРП произошли серьезные изменения в руководящем составе. Спасаясь от ареста, уехали из Симбирска прежние лидеры социал-демократов З.П. Соловьев, С.И. Черномордик, Д.И. Ульянов и Ю.А. Кролюницкий. Так же смогли бежать В.В. Орлов и В.В. Рябиков. В этих условиях на первый план начинают выходить те, кто прежде был в тени таких опытных и грамотных социал-демократов, как З.П. Соловьев, С.И. Черномордик, или молодых, но напористых, с лидерскими качествами, как В.В. Орлов и В.В. Рябиков.
Уже в первой половине 1907 г. братья становятся заметными фигурами местного социал-демократического движения, о чем говорит и их арест 3 июня 1907 г. П.А. Столыпин, готовя под надуманным предлогом о заговоре социал-демократических депутатов разгон неугодной, некарманной II Государственной Думы, предварительно разослал по губерниям приказ о превентивном аресте активных революционеров, чтобы уменьшить возможность проведения протестных акций в связи с разгоном Думы и незаконным изданием нового избирательного закона (законы могла принимать только Государственная Дума). В ходе обыска у Сергея не нашли ничего «преступного», у Алексея оказалось найдены газета «Рабочий союз» и прокламация РСДРП. Обнаруженного не хватало, что выставить их в качестве улик и 10 июня 1907 г. братьев освобождают.
В России началась столыпинская реакция. Перед революционерами Поволжья встала необходимость определиться с тактикой в новых условиях, что должна была сделать региональная партийная конференция. Среди поволжских городов более безопасно было в Симбирске. Это способствовало выбору города для проведения II Поволжской областной партконференции. Она состоялась в середине июля, на ней было довольно широкое представительство: приехали делегаты из Казани, Самары, Саратова, Царицына и Астрахани. Председателем конференции избрали С.В. Миртов (вторым симбирянином на конференции был Н.С. Спирин). Казанцы и симбиряне доложили о состоянии дел в своих организациях, после чего участники конференции приступили к обсуждению тактических вопросов и начались бурные дебаты. Острые дискуссии вызвал вопрос о возможности участия в новых думских выборах. Симбиряне, самарцы и другие были «за», но саратовец К.И. Пронин-Плаксин, выступая с бойкотистских позиций своей организации, был категорически против того, чтобы социал-демократы принимали участие в думской компании. Авторитет Саратова был высок, и единое решение принято не было. Не смогли договориться и о создании координирующего органа – Поволжского бюро, что являлось насущной необходимостью после прекращения существования Восточного бюро ЦК РСДРП. Договорились делегаты лишь о необходимости посылки представителя региона на III Всероссийскую конференцию РСДРП. Вероятно, Сергей произвел на поволжских делегатов (а это были опытные революционеры) благоприятное впечатление и его избрали на данную конференцию.
28 июля 1907 г. состоялась городская партконференция, на которой присутствовало 10 человек. Собравшиеся избрали новый состав комитета и приняли устав организации. Однако партийная жизнь протекала вяло. Свежее дыхание в местную социал-демократическую среду внес приехавший из Финляндии со всероссийской конференции Сергей Миртов. Вернувшись в Симбирск, он был избран в комитет и затем стал во главе его, усилив работу в партийных ячейках и профсоюзах, организуя партийные собрания, сам активно выступая на них.
Организация насчитывала более 300-х человек, но грамотных людей не хватало. Сами не искушенные в «книжном учении» и слабо знакомые даже с обязательным набором партийной литературы («теоретической работой заниматься было некогда», – вспоминал позднее член комитета в 1907 г. Б.А. Кабанов), однопартийцы с уважением, хотя и несколько иронично, прозвали Сергея «брошюркой на двух ногах» [Симбирская группа РСДРП 1925: 107].
Симбирские члены РСДРП, в основной массе не очень разбираясь в сущности разногласий между большевиками и меньшевиками, старались не определять свою принадлежность к тому или иному крылу партии, но Сергей был твердо выраженным большевиком.
В начале сентября симбиряне его избрали на конференцию большевиков в Петербурге (на которую он не попадет из-за скорого ареста) [Государственный архив Ульяновской области: ф. 855, оп. 1, д. 758, л. 14 ].
31 августа 1907 г. наконец-то заработала типография, которую устанавливали с весны 1907 г. С.В. Миртов пытался сделать ее недосягаемой для жандармов. О том, где она находится, знал сам Сергей, ответственный за технику бывший редактор социал-демократической газеты «Наши дни» А.И. Кирьянов, Н.Н. Востоков и Н.П. Антонов. Этот последний был вчерашний гимназист, его отец работал управляющим имением в Шумовке и редко проживал в городе. Используя данное обстоятельство, типография была размещена в его доме по Шатальной улице. С.В. Миртову нужен был новый человек, знакомый с типографской работой. Выбор пал на 19-летнего члена РСДРП Е.П. Федорова, типографа по профессии. Сергей не предполагал, что «толковый паренек» является сотрудником жандармерии по кличке «Николаев». Участь комитета и типографии была решена.
Социал-демократы смогли отпечатать около 400 воззваний от Союза домашней прислуги и устав организации, после чего начались аресты. В конце сентября 1907 г. типография была раскрыта, 8 человек схвачено. В их числе был почти весь актив организации, во главе с С.В. Миртовым. Самого Сергея подняли с кровати в больном тяжелом состоянии, идти он не мог, и в тюрьму его отправили на извозчике» [Государственный архив новейшей истории Ульяновской области: ф. 677, оп. 2, д. 13, лл. 28-28 об]. Из арестованных два человека (19-летний наборщик В.Г. Морозов и 21-летний конторщик М.И. Кузьмин) на два года были сосланы в Вологодскую губернию, еще двое (19-летний маляр Н.Г. Николаев и 30-летняя кухарка А.П. Колтыш) сами выбрали место ссылки, А.И. Кирьянов был посажен на год в тюрьму. С.В. Миртову грозила двухгодичная ссылка в Вологодскую губернию. Наказание это было в общем-то не самое страшное, но происходит неожиданное: чтобы его избежать, Сергей соглашается стать тайным сотрудником жандармерии. Новый агент «Старов» был представлен Департаменту полиции и вместе с другим арестованным, 17-летним П. Соболевым, был отправлен за границу для освещения действующих там партийных кругов. Формальным поводом к изменению наказания явилось ходатайство матери Сергея о смягчении наказания. (Алексей избежал ареста потому, что 29 августа 1907 г. после завершения летних студенческих каникул уехал в Петербург, а также потому, что в организации он состоял формально рядовым членом, не входя в состав комитета. В столице он продолжал партийную работу и даже имел выход на руководящих партийных работников).
Жандармерия и полиция с подачи самих руководителей департамента полиции наводняли революционные организации своими осведомителями. Жандармы отличались мастерством в оказании психического давления на арестованных, в сломе ментального сопротивления. Духовно поверженным оказался и 22-летний, в общем-то, еще очень молодой Сергей Миртов. По воспоминаниям партийцев, С. Миртов даже пытался обвинить в провокаторстве другого человека, некоего Чекулаева, распространявшего прокламации.
В январе 1908 г. в Симбирск вернулся Алексей Миртов, который выступил инициатором воссоздания местной революционной организации. Через него шли связи с ЦК. Собрания также порою проходили в его квартире. Кроме него в комитет вошли массажистка С.Ц. Урьева, банковский служащий Ф.Н. Иванов, типограф Г.С. Сибиряков и др. Новый комитет собирал деньги на партийные нужды, организовывал собрания, укреплял цеховые ячейки, но, чем дальше, тем больше в организации стал нарастать кризис. Членов комитета стали обвинять «в диктате и финансовых злоупотреблениях». 26 марта 1908 г. на проводимом собрании представители типографов и булочников поставили вопрос о создании ревизионной комиссии, что и было сделано. 7 апреля они же потребовали проведения ревизии комитетских книг. В ответ на это С.Ц. Урьева и Н.С. Спирин заявили, что комитетские книги ревизии не подлежат. В дальнейшем рабочие стали настаивать на ревизии всей деятельности комитета, на проведении городской партконференции, где бы прошли выборы нового комитета. Оба требования выполнены не были. В знак протеста рабочие отправили в ЦК жалобу на незаконные действия комитета. Поскольку тот отказался ее рассматривать, ячейка типографов перестала платить членские взносы и объявила о выходе из состава РСДРП. Одновременно стал разваливаться комитет, который по разным причинам покинули Г. Сибиряков, С.Ц. Урьева и Н.С. Спирин.
Все эти «дрязги» проходили без Алексея, который в это время жил в столице. В мае 1908 г. он вновь возвращается в Симбирск. В условиях организационного кризиса оставшиеся члены комитета предложили ему возглавить организацию, но А. Миртов отказался, вскоре навсегда покинул Симбирск.
В Петербурге Алексей учится и ведет партийную работу, поддерживает связи с товарищами, оставшимися в Симбирске на свободе. Здесь в сентябре 1908 г. прошли аресты, весь состав комитета был арестован. В ноябре 1908 г. Алексей сообщает симбирянам, что в начале декабря в город должен приехать работник для восстановления организации, и что его кандидатуру на эту роль ЦК отклонило» [Государственный архив Ульяновской области: ф. 855, оп. 1, д. 868, л. 98].
Знакомство с документами позволяет утверждать, что к 1909 г. Алексей Миртов становится заметной фигурой в социал-демократическом движении: он известен ЦК, ему могут поручаться ответственные задания. И вдруг все кардинально меняется: Алексей решает покончить с революционной деятельностью. Можно предположить, что, желая, как и большинство людей, личного счастья, успеха, достатка, он в определенный момент осознал, что достижение всего этого невозможно при продолжении антиправительственной деятельности. Принятое решение было результатом трудного морального выбора, но победил конформизм, успешно насаждаемый и культивируемый господствующей идеологией, обслуживающей ее системой воспитания, службами пропаганды и средствами массовой информации. В результате Алексей Миртов не просто «уходит из революционеров», но начинает сотрудничать в суворинским «Новым временем», что в общем-то было даже и не обязательно для доказательства своей верноподданности монарху.
В 1910 г. он заканчивает обучение в университете, после чего по ходатайству проректора, профессора И.Д. Андреева получил место преподавателя в Петербургской гимназии. Это дало ему возможность работать в университете. В 1911 г. Миртов был приглашен преподавателем русского языка и литературы в Смольный институт, а в 1913 г. - на высшие женские курсы новых языков при Александровском институте, где он читал методику родного языка и введение в языкознание. В этот же период начинается и его научная деятельность. В июле 1917 г. А. В. Миртов выехал на Дон, где был последовательно директором двух Новочеркасских гимназий, а позже, в 1919 г., был избран директором учительского института в Краснодаре и принял участие в его реорганизации в педагогический институт. Затем Алексей Василькович возвращается в Новочеркасск, где приступает к работе в Донском педагогическом институте, в котором был деканом литературно-исторического факультета. В Северо-Кавказском государственном университете Алексей Василькович работал до 1 октября 1930 г. затем он перешел в Пермский университет, а с 1948 г. трудился на кафедре русского языка и общего языкознания Горьковского университета. Умер он в 1966 г., оставив о себе память как об уважаемом и маститом ученом. О своей революционной симбирской молодости он не вспоминал. Неудивительно, что в имеющихся публикациях о нем эта сторона его жизни совершенно не отражена [Енина. Электронный ресурс], [Профессора Пермского государственного университета 2001], [Научное наследие России. Электронный ресурс], [История филологического факультета (1916–1976). Электронный ресурс]. О ней просто не знали. Ренегатство не украсило бы его биографию, кроме того, и упоминания о двух братьях только бы помешали его успешной карьере.
Какова была судьба Сергея Миртова? После ссылки Сергей уехал за границу. Там он женился, у него родился сын. 31 декабря 1909 г. он вернулся с семьей в Симбирск. Не имея средств к существованию, начал давать уроки. Однопартийцев, насколько это можно было, избегал, партийной работы не вел. Как агент для жандармерии он уже не представлял интереса и поэтому даже не состоял в списке тайных сотрудников. В мае 1910 г. его призвали в солдаты, но, из-за «сурового» к нему отношения, он дезертировал. Получив паспорт знакомого, С. Миртов пробрался через Финляндию за границу. По манифесту 1913 г. как военный дезертир он получил право вернуться, что и сделал. В Симбирске пробыл несколько дней, больше сидел дома. Во время мировой войны он находился на фронте, в декабре 1914 г. попал в плен. Больше о нем ничего не известно [Государственный архив Ульяновской области: ф. 677, оп. 2, д. 13, лл. 28 - 28 об.].
Проследим также судьбу третьего брата, Д. Миртова. Дмитрий выбрал свой путь: «симпатизировать революции на кухне», совершенно не участвуя ни в чем противозаконном. Так он сохранил свою свободу. 1917 год застает его прапорщиком 142 запасного пехотного полка, дислоцированного в Симбирске. Когда открылись жандармские архивы, он категорически отказался верить в предательство Сергея, написал оправдательное для брата заявление в Следственную комиссию. В апреле 1917 г., когда Симбирскую городскую Думу пополнили представители от районов, Дмитрий оказался в числе новых гласных. Неизвестно, вступил ли он в меньшевистскую организацию, но взгляды именно этой партии были ему наиболее подходящими. Радикализм левый, большевистский, также как и радикализм правый он не принимал.
В 1918 г. Д. Миртов служил в Симбирской милиции, жил в городе во время управления Комуча. В августе 1918 г. Дмитрий баллотировался в Городскую Думу по списку № 10 «Профсоюзы», где, правда, занимал не проходное пятьдесят второе место. Данный список объединял в основном меньшевиков, которые критично относились к политике Комуча, считая, что при нем идет наступление фабрикантов на права рабочих. Не случайно, что на выборах профсоюзный список выступал под оппозиционными Комучу лозунгами: «Кто за свободу рабочих организаций, за свободу стачек, собраний и союзов, тот пусть голосует за список № 10» [Государственный архив новейшей истории Ульяновской области: ф. 57, оп. 1, д. 322, л. 3].
После изгнания Комуча из Симбирска Дмитрий остался в городе. Можно с уверенностью сказать, что диктатура адмирала Колчака была ему чужда, и из двух для себя зол он выбрал большевиков, смирившись с их властью. Известно, чем закончилась его жизнь. Он работал учителем в Ишеевке и по постановлению тройки при УНКВД по Куйбышевской области от 30.12.37 по ст.ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР был расстрелян [Книга памяти жертв политических репрессий 1996: 40].
Вместо заключения. Судьбы трех симбирян являют собой примеры разных видов конформизма, культивируемого как в царской империи, так и в послереволюционной России. Систематически подавляя свободомыслие, ставя интересы государства выше интересов личности, авторитарные политические системы делают невозможным нормальное развитие гражданского общества, вынуждают людей рано или поздно склонять голову перед «бездушной государственной машиной», жить во лжи, в противоречии с собственными убеждениями из-за постоянных опасений за благополучие себя и своих близких. Внешние (социально-политические, экономические и культурные) обстоятельства жизни братьев Миртовых, ставившие этих в общем-то ничем не выдающихся, «простых» людей, перед сложнейшими и не посильными для них моральными выборами, в некотором отношении объясняют слабость институтов гражданского общества в современной России.
Список литературы Социал-демократ начала ХХ в. перед моральным выбором (на примере симбирян братьев Миртовых)
- А.В. Миртов -диалектолог//История филологического факультета (1916-1976) /Под общ. ред. А.В. Пустовалова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Электр. дан. Пермь, 2015.//URL: http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/o-fakultete-fil/phylfac-history-1916-1976#_Toc411094625 (дата обращения: 03.03.2017).
- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области.
- Государственный архив Ульяновской области.
- Енина И.А. Алексей Василькович Миртов (1886-1966) //Донской временник . URL: http://www.donvrem.dermartology.ru/Files/article/m17/0/art.aspx?art_id=504 (дата обращения: 03.03.2017 г.).
- Книга памяти жертв политических репрессий. Ульяновск. 1996.
- Миртов Алексей Василькович //Электронная библиотека «Научное наследие России» . URL: http://library.ruslan.cc/authors/миртов-алексей-василькович/(дата обращения: 03.03.2017 г.).
- Митров Алексей Василькович (1886 -1966) //Ярус: Портал русского языка . URL: http://yarus.asu.edu.ru/?id=248 (дата обращения: 03.03.2017).
- Памятная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1902 г. Симбирск. 1902.
- Профессора Пермского государственного университета: (1916-2001)/Гл. ред.: В.В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001.
- Рябиков В.В. 1905-1908 гг. (из воспоминаний)//1905 г. в Симбирске. Симбирск. 1925.
- Симбирская группа РСДРП (обзор отрывочных источников)//1905 г. в Симбирске. Симбирск. 1925.