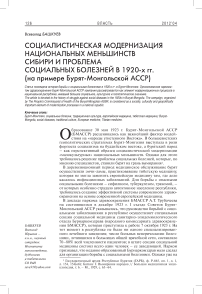Социалистическая модернизация национальных меньшинств Сибири и проблема социальных болезней в 1920-х гг. (на примере Бурят-Монгольской АССР)
Автор: Башкуев Всеволод Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории борьбы с социальными болезнями в 1920-х гг. в Бурят-Монголии. Организованная наркоматом здравоохранения Бурят-Монгольской АССР кампания рассматривается как элемент модернизационных процессов в национальной республике, имевший большое социальное, культурное и геополитическое значение.
Бурят-монголия, социальные болезни, традиционная культура, европейская медицина, тибетская медицина
Короткий адрес: https://sciup.org/170166320
IDR: 170166320
Текст научной статьи Социалистическая модернизация национальных меньшинств Сибири и проблема социальных болезней в 1920-х гг. (на примере Бурят-Монгольской АССР)
О бразование 30 мая 1923 г. Бурят-Монгольской АССР (БМАССР) расценивалось как важнейший фактор воздействия на «народы угнетенного Востока». В большевистских геополитических стратагемах Бурят-Монголия выступала в роли форпоста социализма на буддийском востоке, а бурятский народ – как перспективный образец социалистической модернизации «малокультурных» национальных меньшинств. Однако для этого требовалось решение проблемы социальных болезней, которые, по мнению специалистов, ставили бурят на грань вымирания1.
В дореволюционный период медицинское обслуживание бурят осуществляли эмчи-ламы, практиковавшие тибетскую медицину, которая не могла заменить европейскую медицину там, где дело касалось инфекционных заболеваний. Для борьбы с опасными социальными болезнями – сифилисом, туберкулезом, трахомой, – от которых особенно страдало автохтонное население республики, требовалось создание эффективной системы современного здравоохранения на основе современной европейской медицины.
БАШКУЕВ Всеволод
В докладе наркома здравоохранения БМАССР А.Т. Трубачеева на состоявшемся в декабре 1923 г. I съезде Советов Бурят-Монгольской АССР указывалось, что руководство борьбой с социальными заболеваниями в республике осуществляет специальная секция социальной медицины санитарно-эпидемиологического отдела Бурнаркомздрава (народного комиссариата здравоохранения БМАССР), которая приступила к работе 7 октября 1923 г. На тот момент в республике не было ни одного специализированного лечебного заведения; число больных венерическими болезнями, лечившихся в больницах общей врачебной сети, составляло 70–80% всей численности пациентов; в штате секции социальной медицины состоял всего один человек – ее заведующий. Нарком признавал, что недавно образованный Бурнаркомздрав мало сделал для организ ации борьбы с социальными болезнями. Однако уже на
1 Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ), ф. Р-665, оп. 1, д. 1, л. 154, 154(об); Баткис Г. Вымирание народов // Большая медицинская энциклопедия, т. 6. – М., 1929, с. 63–64.
этом этапе были определены необходимые шаги, по которым впоследствии проводилась кампания против социальных болезней в республике.
В практическом плане из-за нехватки средств на приобретение современных препаратов йода и сальварсана нарком-здрав БМАССР был вынужден ввести их платный отпуск. Это противоречило принципам «социалистической медицины», но давало возможность продолжать лечебную работу. Началась борьба с некоторыми социальными причинами распространения венерических заболеваний. При Бурнаркомздраве был организован Центральный совет по борьбе с проституцией. По его линии в Верхнеудинске была открыта школа кройки и шитья, где в 1924–1925 гг. обучалось около 30 одиноких женщин, которых таким образом старались удержать от вовлечения в торговлю телом.
Таким образом, шаг за шагом выстраивалась стратегия кампании по ликвидации социальных болезней. Сопоставляя деятельность Бурнаркомздрава с идеологическими и геополитическими императивами большевистского руководства страны, можно убедиться в том, что практическая необходимость решения насущной для бурят проблемы была прочно увязана с процессом социалистической модернизации национальных меньшинств Сибири, в большевистском дискурсе именовав- шихся «малокультурными народами». В ходе борьбы с венерическими болезнями, туберкулезом и трахомой поднимались фундаментальные проблемы трансформации традиционного образа жизни, систем мировосприятия, ментальности и жизненного пространства бурят. Перед советским руководством республики стояла сложнейшая задача, решение которой требовало привлечения значительных финансовых, кадровых и творческих ресурсов, гибкости и адаптивности в распределении и применении имевшихся в распоряжении ограниченных средств, способности лоббировать свои интересы в вышестоящих органах власти и путем использования международных контактов.
Изучая особенности заболеваемости сифилисом и туберкулезом в БМАССР, советские врачи проводили разделительную линию между ними, основываясь на социально-бытовых и социокультурных факторах. Так, считалось, что сифилис был более распространен среди восточных бурят, которые вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством и отличались традиционным для кочевника бытом. Заболеваемость туберкулезом среди западных бурят, живших оседлым или полукочевым хозяйством, объяснялась скученностью, сыростью, недостатком тепла и света в традиционном деревянном жилище, вредными привычками взрослых – курением и плеванием на пол2. Кроме того, специалисты уделяли внимание другим социокультурным факторам – наличию или отсутствию традиций личной гигиены, пище, напиткам, одежде и бытовым предметам, ритуальным практикам, особенностям половой жизни бурят. В соответствии с большевистской идеологической доктриной именно социальная среда порождала условия для распространения социальных заболеваний. В этом плане история борьбы с сифилисом и венерическими болезнями в Бурят-Монголии позволяет лучше понять глубинное значение связанных с ней социально-бытовых, социокультурных, идеологических и мировоззренческих трансформаций. Изучение этих заболеваний делает неизбежным вторжение не только в тонкую сферу индивидуальных интимных отношений, но и в морально-этические и религиозные догматы общества, а также, через важнейшую биологическую функцию репродукции, в области евгеники, демо-графии и геополитики.
С научно-медицинской точки зре-ния сифилис в Бурят-Монголии пред -ставлял собой сложную проблему. Дореволюционные и советские венеро-логи не могли с уверенностью определить ни точную дату начала эпидемии, ни ее происхождение. Доктор Д.А. Лапышев, начальник обследовательского венотряда, работавшего в Троицкосавском аймаке и в Адон-Челонском хошуне Агинского аймака БМАССР в 1924—1925 гг., считал, что среди бурятского населения сифилис существовал в течение нескольких столе тий. К такому выводу он пришел на основе данных по степени распространенности скрытых, врожденных и третичных форм болезни1. Другие гипотезы утверждали, что сифилис занесли в XVIII в. с запада — рус -ские купцы на пути через Кяхту в Китай2 или отправленные на каторгу проститутки и уголовные преступники. Э.Ф. Шперк считал, что болезнь была занесена в Сибирь с востока моряками иностранных китобойных судов. С.Е. Гальперин писал, что сифилис был занесен шведскими военнопленными, интернированными в Тобольск после 1709 г.3 Встречались и совсем экзотические версии о проис хождении эпидемии из Китая, где близ границы якобы существовал целый город сифилитиков4.
Каждая из указанных гипотез, скорее всего, содержала долю истины. Сифилис в Бурят Монголии отнюдь не являлся исключительным для России явлением. Однако в Бурят - Монголии существовала определенная специфика. Она заключа лась, во первых, в гораздо более высокой общей заболеваемости (в среднем 246 случаев на 10 тыс. населения в 1924—1925 гг. против 72 случаев на 10 тыс. населения в царской России в 1914 г.), во-вторых, в огромной разнице между заболеваемостью среди бурят и русских (289 бурят и 161 русский на 10 тыс. населения в Аларском аймаке; 627 и 61 — в Хоринском, 503 и 13 — в Боханском аймаках БМАССР на 19241925 гг., т.е. от 2 до 38 раз)5 и, в-третьих, в невозможности определить, каким путем (половым или бытовым) преимущественно распространялась инфекция. Характерно, что советские медики обходили внима нием многократно увеличившиеся после ввода в эксплуатацию Транссибирской магистрали миграционные потоки, регу лярный транзит крупных воинских кон тингентов, наплыв временных трудовых мигрантов и другие результаты социально экономических изменений начала ХХ в., которые могли способствовать половой передаче инфекции. Из виду также упу-скался период Гражданской войны, когда мирное население регулярно подвергалось насилию со стороны различных воору женных формирований, часто состоявших из уголовников и каторжников.
Напрашивается вывод о том, что селективное объяснение причин объяснялось распространенной среди русских врачей парадигмой отсталости и темноты кре стьянских масс и инородцев, не сознавав ших опасности сифилиса и венерических болезней. Этот тезис прекрасно уклады вался в идеологическое русло, позволяя позиционировать венерические болезни как «тяжелое наследие прошлого», «соци-альный бич», доставшийся от царизма, и обосновывать на этом фоне необходи мость культурной революции по социа листическому сценарию с ведущей ролью ВКП(б) в этом процессе.
Борьба с социальными болезнями носила характер широкомасштабной кампании, состоявшей из нескольких взаимосвязанных этапов. Медицинский этап включал обследование населения в наиболее пораженных районах респу блики, осуществлявшееся специальными отрядами и научными экспедициями; комплексное исследование заболеваний, их этиологии, течения, последствий; апробацию новых медикаментов и мето дов лечения. Параллельно изучались социальные причины распространения болезней: особенности быта, половой жизни, матримониальные традиции, отражение проблемы социальных заболе ваний в языке, фольклоре, традиционной культуре1. К этой работе привлекались социальные антропологи из Комиссии по изучению племенного состава СССР (КИПС), местные ученые - этнографы, педагоги2.
Следующий этап включал в себя раз -личные виды санитарной пропаганды. В периодической печати объявлялись дни и месячники борьбы с венерическими забо леваниями, изготавливались плакаты, муляжи, наглядные пособия для домов санитарного просвещения, проводи -лись публичные лекции, печатные мате риалы переводились на бурятский язык. Тематические мероприятия вплетались в работу специальных комиссий, напри -мер, созданной в начале 1925 г. комиссии по улучшению быта тружениц при ЦИК БМАССР. Централизованно проводилась работа по борьбе с проституцией, созда вались программы бытовой и социальной адаптации беспризорных женщин, орга низовывались специальные общежития, дома временного пребывания и трудовые артели3.
Большое внимание уделялось коор динации борьбы с социальными болез нями с вышестоящими учреждениями: наркоматом здравоохранения РСФСР, Академией наук СССР, с научно исследовательскими учреждениями, пре жде всего Государственным венерологиче-ским институтом и его директором, про фессором В.М. Броннером.
В ходе борьбы с социальными болез-нями были установлены международ ные научные связи и организованы две советско германские медицинские экс педиции по изучению сифилиса — в 1926 и 1928 гг. В ходе второй экспедиции врачи пришли к парадоксальному, но законо мерному выводу, что в условиях Бурят Монголии сифилис носил не бытовой, а половой характер и основным фактором его распространения были особенности сексуальности и половой быт бурят, а не антисанитарные условия и невежество коренного населения4.
Кампания против социальных болез ней была ярким примером модерниза торских амбиций большевиков. Являясь важным компонентом ленинской нацио нальной политики, борьба за оздоровле ние национальных меньшинств в случае Бурят-Монгольской АССР увенчалась успехом. В ходе упорной работы с 1923 по 1930 гг. удалось существенно снизить заболеваемость сифилисом и другими венерическими болезнями, а также тра хомой и туберкулезом в республике. За несколько лет были открыты 6 венеро логических и 2 туберкулезных диспан сера в аймаках БМАССР, 1 венерологи ческий и 1 туберкулезный диспансер в г. Верхнеудинске. Пропаганда европей-ской медицины, личной гигиены и здо рового образа жизни, санитарное про свещение и, самое главное, казавшееся бурятам чудодейственным исцеление, казалось бы, безнадежных больных вли ваниями сальварсана и препаратов вис мута возымели действие. Лечение вене -рических болезней стало действительно массовым явлением. В феврале 1928 г. «Бурят - Монгольская правда» писала, что за 3 года в Верхнеудинском венерологи ческом диспансере было зарегистриро вано 95 870 посещений5. Эта колоссаль-ная цифра свидетельствовала об эффек тивности проводимой Бурнаркомздравом кампании.
Еще одной причиной эффективно -сти кампании по борьбе с социальными болезнями был прагматизм большевиков, опиравшихся на достижения современной рациональной науки, и связанная с этим доля гибкости и адаптивности, позволив шая им без особых проблем использовать международные научные связи, невзирая на идеологические разногласия. Многое также зависело от профессионализма советских и бурятских врачей, сумевших перенять опыт ведущих мировых специа листов в области социальных болезней.
Период 1920 х гг. с его относительной открытостью и идеалистическими зада чами социальной модернизации «отста лых» народов СССР позволил осуще-ствить многие амбициозные проекты и заложил фундамент советской медикосанитарной помощи соседним странам Азии в 1930-х гг. Можно сказать, что в этот промежуток времени идеология и внутренняя политика были больше обра-щены к человеку и его проблемам, чем во все другие периоды российской исто рии. Попытка создать из бывших «мало -культурных народностей» новых людей социалистической генерации путем их окультуривания и оздоровления, несмо тря на свою идеалистическую сущность, в целом привела ко многим положитель ным результатам. Снижение заболевае-мости социальными болезнями, ликви дация очага эндемического сифилиса в Бурят - Монголии, построение практиче -ски с нуля эффективной системы здраво охранения были маркерами социальной модернизации и гуманизации социаль ной жизни на национальной периферии.
К сожалению, этот период вскоре сме-нился сталинской «революцией сверху», когда гуманистическая направленность и относительный персоноцентризм 1920- хгг. сменился механистической безликостью индустриализации и коллективизации. Кампания по поиску идеологических ошибок и самобичевание, характерное для эпохи сталинизма, коснулось и соци альной венерологии. В свете постановле- ний XVII партконференции В.М. Броннер пересмотрел и признал ошибочными свои гуманные взгляды в области венерологии и предложил перейти от лозунга 1928 г.: «Сифилис — не позор, а несчастье» к пониманию, что «в напряженной борьбе за новую жизнь, в борьбе за выполнение директив партии о снижении заболевае мости, в борьбе за выполнение и перевы полнение плана каждое заболевание вене рической болезнью должно быть осознано заболевшим как вредящее этой борьбе»1. Бывший «социальный бич» превратился в социальную стигму, упоминания о про блеме социальных болезней постепенно исчезли из общественного и даже науч ного дискурса, а участники международ ного медицинского сотрудничества либо сгинули в ГУЛАГе, либо десятилетиями боялись рассказывать о своей работе в 1920-х гг. Именно поэтому столь яркий эпизод в истории социальной модерни зации Бурятии долгие годы не попадал в поле зрения исследователей и по новому раскрывается только сейчас, почти столе тие спустя.