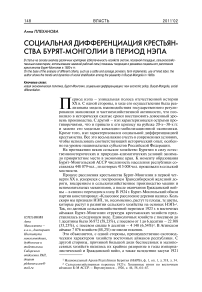Социальная дифференциация крестьянства Бурят-Монголии в период НЭПа
Автор: Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа различных критериев (обеспеченность хозяйств скотом, посевной площадью, сельскохозяйственным инвентарем, использование наемной рабочей силы) показаны тенденции и динамика социального расслоения крестьянства Бурят-Монголии в 1920-х гг.
Новая экономическая политика, бурят-монголия, социальная дифференциация
Короткий адрес: https://sciup.org/170165717
IDR: 170165717
Текст научной статьи Социальная дифференциация крестьянства Бурят-Монголии в период НЭПа
П ериод нэпа – уникальная полоса отечественной истории XX в. С одной стороны, в ходе его осуществления была реализована модель взаимодействия государственного регулирования экономики и частнохозяйственной активности, что позволило в исторически сжатые сроки восстановить довоенный уровень производства. С другой – нэп характеризовался острыми противоречиями, что и привело к его кризису на рубеже 20-х–30-х гг. и замене его моделью командно-мобилизационной экономики. Кроме того, нэп характеризовался социальной дифференциацией крестьянства. Все это весьма важно учесть в современных условиях, чтобы иcпользовать соответствующий исторический опыт, особенно на уровне национальных субъектов Российской Федерации.
На протяжении веков сельское хозяйство Бурятии в силу естественноисторических и природно-климатических условий занимало приоритетное место в экономике края. К моменту образования Бурят-Монгольской АССР численность населения республики составляла 448 079 чел., из которых 415 008 чел. проживали в сельской местности.
ПЛЕХАНОВА Анна
Процесс расслоения крестьянства Бурят-Монголии в первой четверти XX в. ускорился с построением Транссибирской железной дороги, внедрением в сельскохозяйственное производство машин и вспомогательных механизмов, а после окончания Гражданской войны – в связи с переходом к нэпу. В 1924 г. Бурят-Монгольский обком партии констатировал: «Классовое расслоение деревни налицо. Коль скоро мы признали НЭП, то, несомненно, растут те плоды, те цветы, которые растут в развитии сельского хозяйства на основах НЭП»1. Так, по данным сельскохозяйственной переписи 1923 г. в восточных аймаках Бурят-Монголии структура крестьянских хозяйств представлялась в следующем виде. Единоличных хозяйств с посевами до 1 десятины было 36 872 (58,23%), с посевом от 1 до 6 десятин – 22 308 (35,23%), с посевом свыше 6 десятин – 4 140 (6,54%)2. В Агинском аймаке 7 076 хозяйств (88,2%) не имели посевов.
Это объясняется, с одной стороны, преимущественно скотоводческим характером хозяйств восточных аймаков республики. С другой стороны, причиной большой доли беспосевных и малопосевных хозяйств являлось их крайнее разорение в годы империалистической и Гражданской войн, а также вследствие засухи 1921
и 1922 гг. По числу единиц рабочего скота хозяйства группировались следующим образом: не имели рабочего скота или имели 1 его единицу 35 699 хозяйств (56,37%), от 2 до 3 единиц – 22 625 (35,73%), свыше 4 единиц – 4 997 (7,89%).
В 1927 г. в Бурятии было проведено выборочное обследование земледельческих аймаков. Обследованию были подвергнуты свыше двух тысяч хозяйств Верхнеудинского уезда, Троицкосавского и Аларского аймаков. Вся посевная площадь распределялась между тремя имущественными группами крестьянства следующим образом: маломощным хозяйствам в 1924 г. принадлежало 43,2% всей посевной площади, в 1926 г. – 37,9%, средним хозяйствам соответственно 51% и 54,4%, зажиточным – 5,8% и 7,7%1.
Приведенные данные дают общее представление об имущественной дифференциации в бурятском улусе и русской деревне. Однако группировка по натуральным признакам позволяет лишь опосредованно судить о расслоении крестьянства. К несовершенству методики подобных исследований нередко прибавлялась недостаточная грамотность исполнителей, их действия «на глазок» или со слов местных активистов. Так, в докладе комиссии по изучению экономического расслоения в с. Тарбагатай в 1926 г. отмечалось, что «стабильных методов к определению социальных прослоек деревни еще не определилось. В большинстве случаев в основу причисления к беднякам, середнякам или зажиточным положен “глас народа”»2. Вместе с тем полученные данные позволяют сделать вывод, что в связи с переходом к новой экономической политике увеличивается удельный вес средних хозяйств при некотором росте зажиточной группы и уменьшении маломощных хозяйств.
В 1928 г. в журнале «Жизнь Бурятии» была опубликована статья М. Ряхова о расслоении деревни в Бурят-Монгольской АССР. Группировка хозяйств, выведенная по подоходной системе и основанная на доходах, учтенных Наркомфином для обложения сельскохозяйственным налогом за 1926/27 гг., была представлена М. Ряховым в следующем виде: бедняки составляли 32,7% земледельческих хозяйств, середняки – 63,7%, кулаки
– 3,6%; в скотоводческих хозяйствах соответственно 36,9%, 59%, 4,1%3. По мнению М. Ряхова, в середине 20-х гг. в связи с начавшимся восстановлением скотоводческих и земледельческих хозяйств растет группа крестьянства с достаточным уровнем доходов, т.е. середняков.
Более объективно определить соотношение социальных групп крестьянства в конце 20-х гг. позволяет исследование С. Зверькова. Он обследовал пять типов индивидуальных хозяйств в республике. Автор считает, что в условиях Бурятии нельзя удовлетвориться группировкой хозяйств только по размерам посевной площади. Если крестьянин Аларского аймака, имеющий 6,22 га, по величине посевной площади считается середняком, то в условиях Хоринского аймака, где на одно середняцкое хозяйство приходится 1,42 га посева, он будет кулаком4. Объясняется это тем, что первый аймак – земледельческий, а второй – скотоводческий. Нельзя удовлетвориться и группировкой хозяйств только по количеству скота, поскольку, например, кулак в Мухоршибирском земледельческо-скотоводческом аймаке, имеющий в среднем 42,2 головы всякого скота, в условиях Агинского скотоводческого аймака будет в лучшем случае середняком, так как здесь на одно середняцкое хозяйство приходится 74,6 головы скота. Таким образом, С. Зверьков доказывал, что группировка хозяйств должна проводиться по натуральным признакам, но с учетом применения наемного труда и других производственных отношений между отдельными хозяйствами.
По подсчетам С. Зверькова, в руках кулаков, составлявших 4,6 % всех дворов, было сосредоточено 14,8% основных средств производства, что давало им возможность, по утверждению исследователя, эксплуатировать батраков и бедняков. В 70,2% кулацких хозяйств использовался наемный труд. Батрацко-бедняцкими были 38,5% крестьянских дворов республики, владели они 13,1% всех средств производства. 89,3% маломощных дворов отпускали рабочую силу. Центральное место на селе занимали середняки – они составляли 56,9% всех крестьянских дворов, владели 72% всех средств производства, в их пользовании находилось 70% всей посевной площади. Правда, с единицы посева товарной продукции середняк получал значительно меньше, чем кулак. О товарности хозяйств можно было судить по количеству и структуре посева. Удельный вес ржи и ярицы в посеве наиболее высок у беднейшей части (68,4% у пролетарских хозяйств, 62,2% – у бедняцких) и наиболее низок у кулаков (47,9%). Удельный вес пшеницы, овса, являвшихся ценной товарной продукцией, рос от маломощных хозяйств к зажиточным: пшеницы – с 14,9% до 17,1%, овса – с 9,9% до 20,4%. Наибольший разрыв по уровню доходов определялся, исходя из наличия скота. В среднем на одно батрацкое хозяйство приходилось 4,9 голов всякого скота, на бедняцкое – 13,9, на середняцкое – 35,8 и на кулацкое – 110,6.
Характеристику социального расслоения крестьянства дает также динамическая гнездовая перепись, проведенная в Бурятии в 1929 г. Ею было охвачено 4 464 хозяйства, являвшихся наиболее типичными для хозяйственного уклада республики. По данным этой переписи, пролетарских и полупролетарских хозяйств было 14,5%, бедняцких – 25,2%, простых товаропроизводителей (середняков) – 54,8%, мелкокапиталистических (кулацких) – 5,5%. По стоимости основных средств производства первая группа занимает удельный вес в 2,3%, по скоту – 2,2%, по посеву – 4,4%; вторая группа соответственно – 10,9%, 11,3%, 15,4%; третья – 72%, 69%, 70,4%; четвертая – 14,8%, 17,5%, 9,8%1.
Наибольший удельный вес группы пролетарских и полупролетарских хозяйств представлен в наиболее хозяйственно развитом Аларском аймаке (24,2%). В типично скотоводческом Агинском аймаке эта группа хозяйств представлена наиболее слабо (5,4%). Общим для обоих районов был большой удельный вес кулацких хозяйств: в Агинском аймаке – 11,7%, в Аларском – 8,2%. Высокий удельный вес крайних социальных групп можно объяснить следующими обстоятельствами. В Агинском аймаке важное место занимали пастбища и численность скота, а в Аларском, типичном в отношении развития земледелия среди бурятского населе- ния, при высоком уровне обеспеченности скотом, машинами и пр. довольно широкое распространение имели наемные отношения и сдача в аренду средств производства. В наиболее слабом в экономическом отношении Хоринском аймаке расслоение было незначительным: 14,4% пролетарских и полупролетарских хозяйств, 1,7% – кулацких2.
Данные большинства обследований содержат лишь показатели, характеризующие в целом крестьянский двор, хозяйство. Однако необходимо иметь в виду, что средний состав бедняцкой семьи составлял 3,8 чел., а кулацкой – 6,1. Данные же по обеспеченности скотом, посевом, сельхозинвентарем и т.д. одного члена хозяйства – «едока» в расчет не брались. Если бы учитывались эти показатели, то социальная картина крестьянства была бы несколько иной. Так, например, по данным динамической переписи 1929 г., на одного едока в бедняцкой семье приходилось 1,6 га посевов, а в кулацкой – 2,2 га3. Разница совершенно незначительная.
По обеспеченности зажиточных хозяйств скотом также нельзя делать вывод о высоком удельном весе кулачества, что подтверждается данными Н.Н. Козьмина. Исследователь, исходя из биологических норм питания, сделал расчет численности скота на семью кочевника-скотовода из 6 чел. Такая семья для обеспечения своей жизнедеятельности должна иметь в собственности 100–115 голов скота. Н.Н. Козьмин доказал, что стадо в 110 голов не дает оснований считать хозяйство зажиточным, это было «потребительское и натуральное в очень значительной степени хозяйство»4. Практика кочевого скотоводства и аргументы ученых убедительно доказывают, что в республике действительно зажиточными можно было считать лишь незначительное число хозяйств.
К сожалению, при анализе процесса дифференциации в деревне, которая в 1920-е гг. находилась в стадии экономического возрождения, слова «кулак», «бедняк» использовались чаще как средство политической борьбы, а не как понятия социального анализа. Большинство проводимых исследований социального расслоения крестьянства преследовало определенные заранее политические цели, и потому уже на стадии подготовки результаты его были либо предрешены, либо подгонялись под спущенные директивы. Тем не менее для выбора методов воздействия на социально-экономические процессы в деревне в целях выработки налоговой, кредитной политики, руководству страны и республики необходимо было иметь точную социальную характеристику крестьянства. «Без знания социального лица деревни трудно говорить о результатах той или иной политики, трудно правильно наметить те или иные мероприя-тия»1. Особенно важно было знать численность бедноты, на которую опирались власти, и численность кулачества, которое противостояло Советской власти. Причем количество кулаков следовало подсчитать особенно точно, так как их недоучет вел к потерям налогов, что наносило материальный ущерб государству. Подобный подход заставлял республиканское руководство постоянно подстегивать нижестоящие инстанции к поиску кулака, предлагать различные методики его выявления, называть примерные проценты кулачества среди крестьянства. Давление сверху вело к так называемым «перегибам», когда на местах хозяйства включали в состав кулачества по признакам, далеким от их экономического положения.
Сегодня уже не вызывает сомнений, что вывод об удельном весе кулачества в 5,5% явился реакцией местных партийных и советских органов на социальный заказ центра, т.е. своего рода экономическим обоснованием сталинского тезиса об обострении классовой борьбы в деревне. Следует отметить, что социальное неравенство в бурятском улусе и русской деревне в период нэпа было естественным явлением и требовало осуществления социально-ориентированной политики, но не искоренения зажиточной части населения и зажиточности как ориентира индивидуального хозяйствования. Однако к концу 1920-х гг. в связи со свертыванием нэпа и развернувшейся насильственной коллективизацией и раскулачиванием естественное развитие социальных процессов в среде сельского населения было прервано.