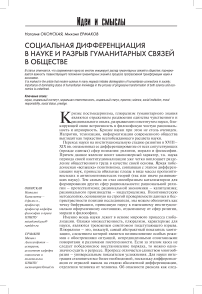Социальная дифференциация в науке и разрыв гуманитарных связей в обществе
Автор: Оконская Наталия Камильевна, Ермаков Михаил Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что современная наука во многом инициирует распад гуманитарных связей в обществе; подчеркивается важность главенствующего положения гуманитарных знаний в процессе прогрессивной трансформации науки и экономики.
Наука, социальный институт, моральная ответственность, социальный статус, престиж
Короткий адрес: https://sciup.org/170166193
IDR: 170166193
Текст научной статьи Социальная дифференциация в науке и разрыв гуманитарных связей в обществе
ризис постмодернизма, плюрализм гуманитарного знания являются отражением раздвоения единства чувственного и рационального опыта, разрываемого институтом науки, блокирующей свою встроенность в философскую чистую рациональность и априорность. Кризис науки при этом не столь очевиден. Напротив, технизация, информатизация современного общества выглядят как торжество всепобеждающего расцвета науки.
Переход науки на институциональную стадию развития в XVIII– XIX вв. ознаменовал ее дифференцирование от всех сопутствующих (прежде единых) сфер познания: религии, морали и философии. Причем данное явление носит закономерный характер, т.к. наука периода своей институционализации уже четко воплощает разделение общественного труда в качестве своей основы. Яркая победоносная «вспышка» позитивизма, совпавшая с этапом дифференциации наук, принесла обильные плоды в виде массы пропозити-вистских и антипозитивистских теорий (так или иначе развивающих науку). Тем самым он стал своеобразным катализатором для формирования других сфер рациональности: рациональной религии – протестантизма; рациональной экономики – капитализма; рационального производства – индустриализма. Позитивистскую методологию, основанную на строгой проверяемости данных и беспристрастности позиции исследователя, мы можем обозначить как точку бифуркации, приведшую науку к нынешнему институционально оформленному состоянию, отдаленному от сфер религии, морали и философии.
Именно мощь науки лежит в основе мирового процесса глобализации. Однако множественность, плюрализм, характерные для науки, являются тревожным симптомом подступающего взрыва. Плюрализм – это, пожалуй, самый абстрактный показатель хаоти-зации, следствием которой является возникновение особых режимов с обострениями ситуаций, непредвиденными спонтанными поворотами и разломами постепенности. Если за этапом хаоса не следует победоносное восстановление порядка, то можно однозначно судить о регрессе. Прогресс отличается единством многообразия – универсальным показателем усложнения. Для науки интеграция становится все более необходимой, поскольку дифференциация ее отраслей вышла на стадию абсолютной дифференциации, отделения человека от человека. Об опасности раскола как след- ствия дифференциации, протекающей в сторону регресса, свидетельствуют многие современные исследования.
В чем же состоит заказ общества по отношению к этому надстроечному элементу – науке? Только ли в увеличении удобства и могущества произведенных технологий? Мы задаем этот вопрос, чтобы выявить свой вариант интеграции науки в качестве ведущего направления упорядочения хаоса дифференциации.
Статус науки в общественном мнении достаточно высок; ученые степени, звания, дипломы о высшем образовании пользуются уважением. Однако престиж ученого не совпадает с официально действующими возможностями влиять на функционирование любого социального института. Ни уважение со стороны общества, ни самоуважение ученых зачастую не соответствуют значимости науки в обществе, что вызвано незавершенностью процесса превращения науки в глобальную экономическую силу и становления информационного общества.
Научная составляющая является ведущим системным образованием научнотехнического прогресса, определяющим сегодня статус и признание каждого участника единого процесса глобализации. На макроуровне к таким участникам, прежде всего, относятся отдельные государства, нации, страны и даже целые континенты, на микроуровне – это отдельные экономические единицы, профессиональные коллективы и отдельные личности. Однако теоретические фундаментальные исследования оказываются невостребованными рынком, что имеет негативные последствия. Происходит мифологизация общества . Основным поставщиком мифологии становится именно наука. И даже сами ученые часто не способны ответить на вопрос, какая часть их открытий может претендовать на соответствие критерию истинности. Несомненно, вследствие мифологического окрашивания научных достижений престиж науки падает.
Следует признать и негативность того, что каждый ученый в отдельности начинает служить «своему» признанию в виде экономической или иной выгоды в конкретной социальной структуре: фирме, учебном заведении, регионе. Общественное признание даже такого функционального типа, как деньги, не помогает, а мешает обнаружению истины. Коммуникация
(уровень задействованной социумом социальной энергии) вытесняет гносеологический успех. Престижными являются все процессы стратификации, приводящие к подъему по социальной лестнице в верхний элитный экономический и политический слой. Социальные возможности (возможности производства интеллектуальной собственности) оцениваются в общественном мнении гораздо ниже, чем экономические и политические. Несмотря на то что объективно наука превратилась в производительную силу и по своим возможностям вышла вперед в перспективе глобальной коммуникации, отставание общественного сознания «удерживает» ученых на положении служителей экономической практики: прибыли и верификации теории с помощью фактов.
Другими словами, главная функция науки (познавательная) тормозит общественное признание этого института в качестве производительной силы. По традиции (мифологически) ученые воспринимаются в качестве первооткрывателей какой-то новой информации. В информационном обществе такую функцию выполняют средства массовой информации. Уж этот-то социальный институт позаботился о рекламировании своего статуса и престижа, в т.ч. и за счет присваивания себе статуса высоконаучной апроби-рованности. Именно поэтому наука, даже имея такой мощный аргумент в статуснопрестижной конкуренции, как возможность усиления могущества человечества и производства энергии, не выходит на высокий уровень общественного признания в случае индивидуально-ценностной ориентации субъектов производства.
Как можно пояснить абсурдную, на первый взгляд, ситуацию, что экономическая практика научных открытий мешает превращению науки в ведущую производительную силу? В реальности даже неполное научное превращение предметов труда, средств труда или процесса труда в новые по составу и свойствам приводит к активизации конкуренции и выигрышу (прибыли). Данная ситуация напоминает золотой прииск стадии начальной его разработки. Прибыль отдельных предприятий оказывается столь значимой, что сам по себе системный процесс научного развития, объективно приведший к прибыли, оказывается вне контроля и управления тех, кто «стрижет купоны».
Не очень-то уважают, мягко говоря, стадию обучения, без которой институт науки оказывается профанацией. И школьное образование, и высшее образование воспринимаются в качестве тормозящей личный успех остановки, паузы. Такой достаточно массовый феномен, как презрение к интеллигенции и чисто прагматическая оценка образованно -сти, является характеристикой уходящей индустриальной эпохи. Для информационного общества как раз ключевым фактором является обладание информацией, что обеспечивается посредством образования. Образование становится одним из основополагающих критериев структурирования общества. Неравный доступ к образованию уже завтра станет лимитирующим фактором, очерчивающим границы собственников (интеллектуальных) информационного общества.
Если оценить данный процесс диалектически, то, с одной стороны, идет процесс глобализации, с другой же – основные организаторы этого процесса не контролируют не только все более множащиеся глобальные проблемы, но даже и собственные социальные структуры микро-и мезоуровня. Ученые не могут добиться уважения, а зачастую лишаются и самоуважения. Разрушение гуманитарных связей, представляющих собой главное содержание всех без исключения социальных институтов, – это и есть выражение неустойчивости социума.
Мы вышли на описание 4-й глобальной научной революции, состоящей в качественном изменении, вплоть до разрушения, всех гуманитарных связей. Разрушение гуманитарных связей означает разрыв коммуникации, потерю социальной (высшей по сложности и производительной силе) энергии, причину глобальных техницистских катастроф. И эти опасности не случайны, их истоки кроются в законах развития науки как таковой. Один из ведущих методологов науки Карл Поппер пишет: «Главная болезнь философии нашего времени – это интеллектуальный и моральный релятивизм. Причем последний, по крайней мере частично, основывается на первом»1. Именно моральные ценности являются основой ценностно-рациональной актив- ности, благодаря которой люди подавляют свой эгоизм и излишнюю рациональность, оказываясь интеллектуальными собственниками.
Исследуя опасность разрыва гуманитарных связей, мы гипотетически предполагаем, что причина скрыта в слабой структурированности эвристического и этического потенциала науки. Именно здесь скрыт резерв прогресса науки (для устранения разрывов и разломов гуманитарных связей) со стороны представителей научных учреждений, в т.ч. высших учебных заведений. С одной стороны, в науке куются кадры интеллигенции, этической опоры всех социальных слоев и страт. С другой стороны, именно наука как социальный институт удовлетворяет потребности в рациональной организации опыта человечества, создавая для этого прозрачные и ясные объяснительные схемы, учебники, технические воплощения открытых законов. Именно рациональность, «защитившая» себя от чувственно-ценностного слоя метафизики, содержит в себе опасность разрывов и разломов всех гуманитарных знаний, позволяя человеку «забыть» свое этическое чувственное основание. Описание, объяснение, прибыль вытесняют ценностно-эмоциональную активность на периферию отдельных групп. Сегодня без науки нет ни одного значимого социального процесса, поэтому в опасности разрыва когда-то целого устойчивого объединения людей находятся все микро- и макросоциальные группы.
Основным достижением капиталистической эры является завершение процесса автономизации человека. Под автономностью и ее мерой мы понимаем сопоставимость возможностей людей в выходе на высший, развивающий культурный уровень. Отсутствие автономности напрямую связано с потерей критерия истинности происходящего. Моральный релятивизм – это яркая демонстрация того, что возможность власти над истиной, предоставляемая автономностью, не используется большей частью научной интеллигенции. Квинтэссенция культуры – философия – отделена от науки институционально. Это необходимый объективный процесс. Однако он должен быть восполнен индивидуальной ответственностью перед самим собой и перед всем миром, как бы выспренно эти слова ни звучали. Прежде такую ответственность возлагали на цер- ковь, школу или науку, соединенную с философией (через идеологическую функцию государства).
Включение моральных норм в сугубо профессиональную деятельность ученого не только возможно, но и необходимо. Преступления, связанные с научными достижениями, не могут быть названы случайными. Любая случайность есть проявление некой необходимости. Нейтральность, провозглашаемая нормой для научных исследований, является оправданием и сокрытием морального релятивизма потерявших себя ученых, утративших свою интеллектуальную собственность, право определять судьбу своих открытий и достижений. Моральный релятивизм сам по себе является преступлением против человеческого достоинства, свободы и чести. Чтобы стать автономным представителем человечества в целом, гражданином мира, ученому необходимо взять на себя ответственность за судьбу своих профессиональных усилий, избавившись от нейтральности в оценке социальных проблем.
В качестве вывода хочется подчеркнуть, что отделение морали от науки является ложным направлением дифференциации научных отраслей, следствием разрыва гуманитарных связей в обществе. Разрыв гуманитарных связей означает характеристику общества, в котором прежние формы общения между людьми (традиции, обычаи, соседство, прямые коммуникации в малых социальных группах) оказываются неэффективными. Критериями профессиональных и других статусных успехов становятся технические показатели скорости, силы, эффективности. Моральный релятивизм является преступным разрушением научной интеграции. Духовные ценности могут защитить институт науки от опасностей технизации, и человечество обретет прогрессивный вектор ускоренного развития производительных сил.