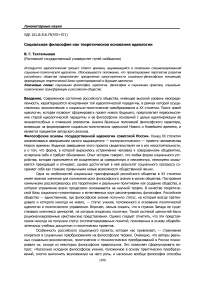Социальная философия как теоретическое основание идеологии
Автор: Тахтамышев Владимир Григорьевич
Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 (60) т.11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуется идеологический процесс Нового времени, выражающийся в появлении специализированной социально-политической идеологии. Обосновывается положение, что проектирование перспектив развития российского общества предполагает преодоление односторонности социально-философских концепций, формирующих теоретический базис ориентированной в будущее идеологии.
Социальная философия, идеология, философия и социальная практика, социально-политические трансформации в российском обществе
Короткий адрес: https://sciup.org/14249726
IDR: 14249726 | УДК: 101.8:316.75(470+571)
Текст научной статьи Социальная философия как теоретическое основание идеологии
Введение. Современное состояние российского общества, имеющее высокий уровень неопределённости, характеризуется исчерпанием той идеологической парадигмы, в рамках которой осуществлялись экономические и социально-политические преобразования в XX столетии. Поиск новой идеологии, которая позволит сформировать проект нового будущего, предполагает переосмысление старой идеологической парадигмы и её философских оснований с целью идентификации её жизнеспособных и отживших элементов. Анализ базисных положений философского характера, влияющих на формирование социально-политических идеологий Нового и Новейшего времени, и является предметом авторского анализа.
Философские основы государственной идеологии советской России. Конец XX столетия ознаменовался завершением самого выдающегося — коммунистического — проекта человечества Нового времени. Видимое завершение этого проекта свидетельствует не о его несостоятельности, а о том, что форма, в которой выразилось устремление человека к совершенному общежитию, исчерпала себя и требует обновления. Опыт истории говорит, что любая форма социального устройства, которая принимается её создателями за совершенную и неизменную, неминуемо оказывается преходящей и отмирает, однако достигнутый в ней результат социального прогресса сохраняет себя как ставшие привычными новые возможности общественной жизни.
Одна из особенностей социальных трансформаций российского общества в XX столетии имеет важное значение для понимания роли философского знания в жизни общества. Построение коммунизма рассматривалось его теоретиками и реальными политиками как создание общества, в котором управление всеми процессами основывается на научной теории. В качестве теоретической базы социально-гуманитарных и естественных наук рассматривалась философия. Российское общество — единственное, где философское знание получило статус, на который всегда претендовало и которого никогда не имело, — статус учения, положенного в основание политической идеологии и политического управления. Впрочем, нельзя сказать, что в странах Запада не существовало комплекса ценностей, на которые опирались политики. Такой системой ценностей были рационализированные христианские представления. Однако следует отметить, что эти представления никогда не получали статус систематизированных понятий, положенных в основу общеобязательных учебных дисциплин и политических проектов.
Особенность российского социального проекта, которая нас привлекает, — стремление опираться в социальных преобразованиях на философскую теорию. Очевидно, что авторы реальных социально-экономических, политических и технологических преобразований в России планировали их, исходя из некоторых философских предпосылок. Это позволяет сформулировать вопрос: «Насколько исходное философское учение, положенное в основу практических преобразований, смогло выполнить возложенную на него роль, и насколько вообще философия способна быть теоретическим основанием социальных изменений?» Ответ на этот вопрос мы и попытаемся найти.
Философским учением, представлявшим собой теоретическую базу социальногуманитарных наук, обеспечивавшим обоснование проектов строительства справедливого сообщества в России, был, как известно, диалектический материализм. Маркс, отдавая основное время экономическим штудиям, дал его характеристику только в самой общей форме. Идеи Маркса были развиты Энгельсом, который представил диамат как синтез диалектики Гегеля и материализма Фейербаха. Следует отметить, что влияние Гегеля было более существенным и находит отражение в теоретических построениях и Маркса, и Энгельса. В какой степени элементы гегелевского учения, заимствованные марксизмом, могли стать частью теоретической системы, обосновывающей социальные преобразования? Попытаемся ответить на этот вопрос, обратившись к анализу философии Гегеля.
Гегелевская философия как один из источников ориентированной на практику социальной философии. Гегелевская система беспрецедентна для Нового времени по полноте охвата рассматриваемого материала, по своей глубине и последовательности. Гегель систематизировал всё знание, накопленное к началу XIX столетия. Как отмечает В. Виндельбанд, «Гегель — величайший систематизатор, какого когда-либо знала философия» [1, с. 267].
Целью философии Гегеля является научное описание действительности, она систематизирует всё накопленное человеком знание, опираясь на найденные всеобщие основания. Однако философия, по Гегелю, выступает на мировую арену тогда, когда действительность закончила своё развитие. В этом отношении чрезвычайно характерны заключительные замечания Гегеля, высказанные им в конце курса лекций по философии религии. Они позволяют сделать вывод, что его философия — система знания, но не орудие изменения действительности. В частности, Гегель говорит, что в современной ему социальной действительности нет единства внешнего и внутреннего, что упадок зашёл слишком далеко. Философия примиряет разум и веру, но, продолжает философ, «...это примирение само является лишь частичным, оно лишено внешней всеобщности, в этом отношении философия — обособленное святилище, и её служители образуют изолированное сословие жрецов, которое не может совладать с миром и должно оберегать владение истиной. Какой выход из своей расколотости найдёт временное, эмпирическое настоящее... это уже не является непосредственно практическим делом и предметом философии» [2, с. 333]. Тем самым Гегель указывает на то, что мир стал расколотым на сферу истинного мышления, науки и эмпирическую действительность. Поскольку Гегель говорит о том, что истина не может совладать с действительностью, он предполагает, что она в принципе может быть орудием изменения социальной реальности. Однако в этом отношении философия не им рассматривается, для него она выступает только системой знания.
Таким образом, можно сделать вывод, что, по мысли Гегеля, философия может принимать различные формы: быть системой истинного знания и средством изменения социальной реальности. Очевидно, эти формы выражают одно содержание, но так, что в первом случае более важным становится законченность выражения системы знания и полнота охвата культурного материала, а во втором — выражение исходных положений, позволяющих осмысливать и влиять на изменяющуюся реальность. Несомненно, что здесь речь идёт о теоретических и практических аспектах философии.
Для создания теоретического орудия изменения действительности Маркс пытался использовать элементы философии Гегеля, применяя её исходные положения — диалектику. Однако в полной мере он не решил эту задачу, поскольку отказался от существенного содержания теоретической философии — принципа завершённости и целостности.
С точки зрения Гегеля, подлинная наука начинается тогда, когда разум освободился от давления действительности и ушёл в себя. Наука выступает как описание данного. Такое понимание предназначения науки и философии означает, что определяющий это понимание принцип культуры в полной мере выразил себя и завершил. Этот принцип культуры Гегель лаконично выразил как становление субстанции субъектом [3, с. 9]. Другими словами, речь идёт о том, что человек в своём индивидуальном, реальном сознании в полной мере воплотил абсолютное содержание, всеобщий закон действительности, всеобщую логику её развития.
Учение Маркса было единственным учением, которое рассматривало гегелевскую философию как живое знание. Маркс отталкивается от отмеченного Гегелем факта отторжения философии действительностью и ставит смелую задачу соединения философии и пролетариата. Фактически Маркс стремится осуществить практическую функцию теоретической философии. В целом правильно представляя задачу, Маркс решает её только частично, поскольку отказывается от существенных моментов самой теоретической философии.
Философия Гегеля есть выражение итога развития европейской культуры. Однако дальнейшее развитие мировой культуры предполагает выход за границы гегелевской философии как только теоретической системы знания и преодоление ограниченности европейской культуры в целом как только момента глобальной культуры. Это движение начато, в сущности, Марксом, который сделал попытку дополнить классическую философию идеологией, реализовать практическую функцию теоретической философии. Поскольку этот синтез отбросил существенное содержание теоретической философии, он оказался неудачным. Тем самым задача создания философии как средства объяснения и преобразования действительности остаётся актуальной.
Гегель рассматривал свою философию как систему знания, объясняющую природу и мир культуры как самосознание западноевропейской цивилизации. Однако это самосознание не принято западноевропейской культурой как своё собственное и по существу отвергнуто ею. Это обстоятельство можно объяснить тем, что в рамках одной системы мирообъяснения возникла другая, более универсальная — и по идейным основаниям, и по социокультурным выводам, — что обеспечивает ей более широкое распространение. В отношении гегелевской системы следует сделать вывод, что она, возникнув как синтез всей западноевропейской культуры, вышла за её пределы, по существу являясь синтезом всей глобальной культуры. Данное обстоятельство является свидетельством ограниченности западноевропейской культуры и её идейных основ. Но оно же говорит и о том, что гегелевское учение является провозвестником новой глобальной культуры и предполагает новую социальную действительность, которая принимает эту систему мышления в качестве своего самосознания. Можно утверждать, что гегелевская система является идеологической конструкцией, самосознанием глобального человеческого сообщества.
Ограниченность идеологической конструкции, с помощью которой Маркс пытался придать гегелевской философии практический характер, состоит в том, что, пытаясь дополнить гегелевскую философию идеологией, Маркс вынужден был придать ей характер открытости. И он сделал это, устранив завершающий момент логической конструкции — момент позитивной диалектики — и сосредоточившись исключительно на моменте негативной диалектики. Маркс взял у Гегеля только негативную диалектику — теорию борьбы, никогда не завершающуюся примирением борющихся сторон. Эту теорию борьбы Маркс превратил в реальную борьбу со всей предшествовавшей культурой, так что его учение прервало связь с ней, обрекая себя на изолированность. Универсализм, который заимствуется Марксом у Гегеля, теряет свой актуальный характер, принимает образ будущего глобального сообщества, в действительности оставаясь только движением к нему, которое не находит даже теоретического завершённого выражения. Использование Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» (и последующих работах) понятий, происходящих из гегелевской системы (человеческая деятельность как универсальная, свободная от физической потребности, воспроизводящая всю природу по меркам любого вида и законам красоты), не вносит в их содержание никакой завершённой определённости. Провозглашаемая универсальность оказывается преодолением постоянно возникающих границ, она не есть актуальная реальность.
Социальная философия и перспективы развития российского общества. Трансформация постсоветского общества привела к полной изоляции индивида от рычагов влияния на социальные процессы и к отказу от самой концепции научного управления социальными процессами. В этих условиях задача теоретического описания общества и снятия реальных социальных противоречий равносильна опирающейся на использование научного понимания реальности задаче выживания общества и отдельной личности. Эта проблема может решаться в рамках практической философии, которая предполагает опору на новую концепцию социальной действительности, отбрасывающую изжившее себя разделение этой действительности на изолированные, замкнутые в себе элементы. Понимание природы общества в границах практической философии приводит нас к пониманию исторического процесса как способа достижения локальными человеческими общностями полноты осуществления характеристик человеческого общества вообще. Иными словами, содержание исторического процесса следует рассматривать как формирование и реальное существование в локальных формах такой человеческой организации, которая обеспечит полное использование национально-локального культурного материала для увеличения возможностей своего устойчивого существования, предельное осуществление всего богатства социокультурной действительности в процессе коммуникативного взаимодействия индивидов.
Мы исходим из того, что общество есть взаимодействие людей, которое локализовано в пространстве и времени, обеспечивает своё воспроизводство на протяжении ряда поколений, а также своё самоуправление. Оно конституируется в процессе взаимодействия двух форм деятельности. Первая из них направлена на преобразование природы. Содержание второй составляет воспроизводство действительности как системы устойчивых форм культуры, имеющих ценность независимо от практической потребности момента. Общество характеризуется равновесием двух противоположных по своему содержанию форм деятельности: деятельности, преобразующей природную среду бытия общества, и деятельности, формирующей идеальный мир природы и ценностей культуры. Закон жизни общества — это устойчивое подвижное равновесие противоположных типов деятельности, конституирующих его существование.
Закон общественной жизни реализуется посредством социальных институтов и механизмов социальной мобильности, обеспечивающих воспроизводство общества и перераспределение человеческих ресурсов в ответ на меняющиеся условия природного и исторического бытия. Закон жизни общества обеспечивает его воспроизводство, ставя в определённую зависимость друг от друга материально-преобразующую и духовно-созидательную деятельность. Противоречие этих форм деятельности и способов бытия человека в итоге устраняется за счёт того, что происходят изменения в каждой из них. Однако поскольку деятельность человека сознательна, а спектр её возможных целей задаётся опознанными ценностями культуры, то универсализация этих ценностей в границах творческо-культурной деятельности должна приводить к расширению горизонта возможных целей и, следовательно, к более эффективному поиску путей преодоления зависимости существования общества от природных условий. Следовательно, можно сделать вывод, что главным фактором устойчивости общественной системы является её способность формировать и принимать более универсальные ценности культуры. Поэтому задачу практической философии следует видеть в определении более высокого уровня универсализации ценностей культуры и в обеспечении их проникновения в наличную культуру общества.
Заключение. Тотальная зависимость, характеризующая взаимодействие индивидов в авторитарном обществе, сменилась в современной России тотальным отчуждением индивидов друг от друга и от социальных институтов. Средством преодоления этого отчуждения должны стать прежде всего более универсальные ценности культуры, способные объединить антагонистические формы культуры и враждебные социальные группы. Опознавание этих ценностей как актуального содержания духовной жизни человека — жизненная задача отдельной личности, решение которой позволяет ей формировать новые формы социального взаимодействия и влиять с их помощью на социальные институты. Выход индивидуума из замкнутого идеального пространства к реальному социальному действию есть историческая необходимость, актуализирующая практическую функцию теоретической социальной философии.
Список литературы Социальная философия как теоретическое основание идеологии
- Виндельбанд, В. История новой философии в её связи с общей культурой и отдельными науками. В 2 томах. Том 2. От Канта до Ницше/В. Виндельбанд; пер. под ред. А. И. Введенского. -3-е изд. -Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1913. -396 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Лекции по философии религии. Часть 2. 1821-1831/Г. В. Ф. Гегель//Философия религии. В 2-х томах. Том 2. -Москва: Мысль, 1977. -(Филос. наследие; том 74). -С. 5-336.
- Гегель, Г. В. Ф. Сочинения. В 14 томах. Том 4. Система наук. Часть первая. Феноменология духа/Гегель; пер. Г. Шпета. -Москва: Соцэкгиз, 1959. -XLVIII, 440 с.