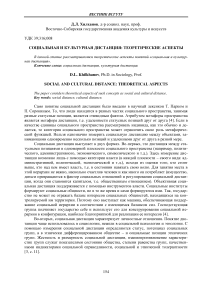Социальная и культурная дистанция: теоретические аспекты
Автор: Хилханов Д.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты понятий «социальная и культурная дистанция».
Социальная дистанция, культурная дистанция
Короткий адрес: https://sciup.org/142142683
IDR: 142142683 | УДК: 39;316;008
Текст научной статьи Социальная и культурная дистанция: теоретические аспекты
Само понятие социальной дистанции было введено в научный лексикон Т. Парком и П. Сорокиным. То, что люди находятся в разных частях социального пространства, занимая разные статусные позиции, является очевидным фактом. Атрибутом метафоры пространства является метафора дистанции, т.е. удаленности статусных позиций друг от друга [4]. Если в качестве единицы социального пространства рассматривать индивида, как это обычно и делается, то категория социального пространства может ограничить свою роль метафорической функцией. Нельзя однозначно измерить социальную дистанцию между объектами, занимающими одновременно несколько позиций и удаленными друг от друга в разной мере.
Социальная дистанция выступает в двух формах. Во-первых, это дистанция между статусными позициями в одномерной плоскости социального пространства (например, политического, административного, экономического, символического и т.д.). Здесь измерение дистанции возможно лишь с помощью категории власти (в каждой плоскости – своего вида: административной, политической, экономической и т.д.), исходя из оценки того, кто стоит выше, кто над кем имеет власть, т.е. в состоянии навязать свою волю. Для занятия места в этой иерархии не важно, насколько счастлив человек и как много он потребляет (имущество, деньги превращаются в фактор социальных отношений и регулирования социальной дистанции, когда они становятся капиталом, т.е. общественным отношением). Объективная социальная дистанция поддерживается с помощью инструментов власти. Социальные институты формируют социальные общности, но в то же время и сами формируются ими. Так, государство не может не отражать баланс интересов социальных общностей, находящихся на контролируемой им территории. Поэтому оно выступает как машина, обеспечивающая поддержание социальной иерархии в соответствии с имеющимся балансом сил. Господствующая группа подчиняет государство себе и использует его для конструирования социальной иерархии в конфигурации, наиболее благоприятной для реализации ее интересов [4].
Во-вторых, социальная дистанция характеризует личностные отношения. Понятие дистанции чаще использовалось в социологии, нежели в социальной психологии и этнологии. С помощью измерения социальной дистанции определяются статус, потенциал социальных групп, а в этнически дифференцированном обществе – и социальные позиции этнических групп. Жесткость и размерность социальной дистанции, взаимопроникновение характеристик групп служат показателями состояния общества, степени равенства групп, качественными индикаторами социальной справедливости, социальной и этнической толерантности [3, c. 11].
Иногда в зарубежной социологии используют понятие внешней и внутренней дистанции, имея в виду в первом случае различия между этническими группами, а во втором – внутри групп.
Впервые феномен культурной дистанции был описан А. Фэрнхемом и С. Бочнером и в дальнейшем преимущественно изучался различными исследователями в рамках парадигмы «культурного шока». Понятие «культурной дистанции» использовалось для рассмотрения дистрессов, переживаемых студентами, обучающимися в чужой культуре. С этой целью психологами был предложен специальный индекс культурной дистанции (CDI), фиксирующий объективные различия между культурами (например, различия в климате, одежде, религии, проведении досуга и т. д.) [2, c. 121].
В отечественной этнологии понятия социальной и культурной дистанций использовались редко. В коллективной монографии отечественных социологов и этнопсихологов под редакцией Л.М. Дробижевой предметом исследования стала социально-культурная дистанция как измеряемая степень близости и отличительности. При этом предметом анализа стали не все элементы культуры, а те из них, которые имеют социально дистанцирующий смысл в конкретных политических и экономических условиях.
Соционормативные культурные различия, в основе которых лежат различия в системе ценностей, значений, эталонов действия, моделей желаемого поведения, рассматриваются в качестве символов культурной и этнической идентификации. Соционормативные культурные особенности, понимаемые таким образом, пронизывают все сферы деятельности людей – трудовую, общественно-политическую, бытовую, досуговую.
Альтернатива «Мы Они» является психологическим механизмом организации культурного содержания границы. Г.У. Солдатова отмечает, что через показатели психологической дистанции исследуются границы межкультурного понимания между народами России [5]. Также альтернатива «Мы Они» является структурирующим принципом этноконтакт-ной ситуации, которая приводит к массовому осознанию этнического членства. В такой ситуации для членов группы становятся актуальными все маркеры этнической границы. Восприятие осуществляется на основе системы ценностей только своей культуры – значимость приобретает не сходство, а различие. Таким образом, социальная и культурная дистанции являются основой формирования этнической границы.
Л.М. Дробижева выделяет несколько характеристик этничности, которые по ее мнению определяют специфику этнической границы [3, c. 35 37].
Во-первых, этничность связывает и солидаризирует на основе группового членства.
Во-вторых, этничность мифологична и в этом ее мобилизующая сила. Ее главная опора – идея или миф об общих культуре, происхождении, истории.
В-третьих, этничность в функции отношений с другими этническими группами, складывающихся по принципу оппозиции, может быть конфронтационна.
В-четвертых, этничность – «родом из прошлого». В современное время целые народы обращаются к своей истории. Даже в США существует «эффект третьего поколения», когда потомки эмигрантов самоидентифицируются на основе этнической идентичности своих предков. Оживление исторической памяти усиливает веру в общее происхождение, актуализирует прошлые обиды и несправедливости, остро ставит проблему соотношения этносоциальных статусов.
В-пятых, этничность обладает «двойным дном». Социологические данные подтверждают разделенность в этническом сознании внутрикультурных норм поведения и представлений о поведенческих стандартах вне своей этнической группы. Само наличие такого различия между двумя областями этничности (эзотерическим и экзотерическим) естественно работает на этническую границу. Следствием таких процессов являются неадекватность этнических образов, снижение их когнитивной сложности и внутренней дифференцированности.
В-шестых, этничность люди способны эмоционально переживать.
В этнологических исследованиях ученые (в основном представители примордиализма) традиционно уделяли и уделяют большое внимание культурным различиям (культурной дистанции) между этносами, в то время как процесс создания и поддержания этнических границ долго оставался вне их поля зрения. Исследователи имели тенденцию к составлению перечня культурных этнодифференцирующих признаков (маркеров этнической идентичности), которые они воспринимали как эндогенные. При этом подобные перечни могут значительно варьироваться у различных исследователей. Этническое и культурное разнообразие объяснялось факторами географической и социальной изоляции. При этом понятно, что в период глобализации и интенсивной межкультурной коммуникации говорить всерьез о наличии значительной изоляции этносов неправомерно.
Во-первых, очевидно, что этнические границы по-прежнему сохраняются и имеют значение для своих членов, несмотря на процессы экономической и межкультурной коммуникации. Иначе говоря, значимые этнические различия не зависят от уровня социальной мобильности, межэтнических контактов и процессов коммуникации, а представляют собой скорее всего социальные процессы включения и исключения, посредством которых этнические группы поддерживают свое существование, несмотря на то, что отдельные индивиды могут менять свою этническую принадлежность. Во-вторых, исследование Ф. Барта показывает, что устойчивые и стабильные социальные отношения успешно поддерживаются через такие границы и зачастую основываются именно на дихотомизированных этнических статусах [1]. Иначе говоря, взаимодействие в такой социальной системе не ведет к исчезновению этнических различий в результате культурных изменений и аккультурации; они могут сохраняться, несмотря на межэтнические контакты и экономическую взаимозависимость.
Прежде всего, Ф. Барт исходил из того, что этнические группы представляют собой определенное организованное социальное взаимодействие, которое отличало одну группу от другой (социальная дистанция). Все остальные характеристики (в том числе культурные маркеры) он соотносил с этим основным, по его мнению, признаком. Таким образом, он сдвинул фокус исследования с внутренних культурных характеристик и исторических фактов отдельных групп к этническим границам и процессам их поддержания. С подобной позиции факт культурной отличительности группы рассматривается как результат, а не первичный организационный фактор.
Необходимо отметить, что, несомненно, этничность напрямую связана с культурными различиями. При этом исследователи и члены этнических групп принимают во внимание только те культурные маркеры, которые считаются «политически» значимыми. Если некоторые культурные характеристики используются как маркеры этнической идентичности, то другие могут просто игнорироваться, причем в определенных социальных, экономических и политических условиях игнорироваться могут весьма существенные различия.
Культурное содержание этнической дихотомии проявляется как в знаках и символах, которые люди активно демонстрируют для внешнего подчеркивания своей идентичности (часто это такие признаки, как одежда, язык, тип жилища или вообще стиль жизни), так и в ценностных ориентациях (системе норм и ценностей, по которым оценивается поведение людей). В реальности ни одна из этих дифференцирующих характеристик не определяется теорией, так как нельзя предсказать заранее, какие из маркеров этнической идентичности будут восприниматься членами группы как политически релевантными. При этом понятно, что основные маркеры этнической идентичности хорошо известны ученым, вопрос в том, какие из них воспринимаются общественностью как значимые, а какие - нет. Так, например, в число значимых маркеров идентичности могут попасть и машинка для резки лапши (у корейцев Средней Азии), и песенные фестивали (у прибалтийских народов). Таким образом, категория этничности напоминает сосуд, который может быть наполнен разным содержанием в различных социокультурных системах.
Если этническая общность определяется как группа, основанная на процессах аскрип-тивности и исключения, то ее природа зависит в первую очередь от поддержания границы. Обозначающие ее культурные характеристики могут меняться, культурные признаки от- дельных членов группы также могут трансформироваться, может видоизменяться даже форма социальной организации группы, однако факт длительной дихотомизации членов группы и нечленов позволяет исследовать меняющиеся культурные формы и содержание. Основной фокус исследования, таким образом, перемещается с культурного содержания на этническую границу, определяющую группу.