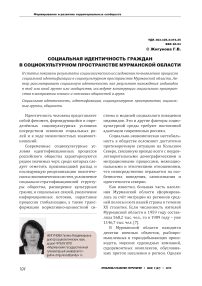Социальная идентичность граждан в социокультурном пространстве Мурманской области
Автор: Жигунова Галина Владимировна
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Формирование и развитие территориальных сообществ
Статья в выпуске: 5 (67), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны результаты социологического исследования по выявлению процессов социальной идентификации в социокультурном пространстве Мурманской области. Автор рассматривает социальную идентичность как результат нахождения индивидов в той или иной группе или сообществе, исследует конструкции социального пространства в восприятии «своих» и «несвоих» общностей и групп.
Социальная идентичность, идентификация, социокультурное пространство, социальные группы, общности
Короткий адрес: https://sciup.org/147111125
IDR: 147111125 | УДК: 303.425.3:316.35
Текст научной статьи Социальная идентичность граждан в социокультурном пространстве Мурманской области
Социальная идентичность, идентификация, социокультурное пространство, социальные группы, общности.
Идентичность человека представляет собой феномен, формирующийся в определённых социокультурных условиях посредством освоения социальных ролей и в ходе межличностных взаимоотношений.
Современные социокультурные условия идентификационных процессов российского общества характеризуются рядом значимых черт, среди которых следует отметить произошедший распад и последующую реорганизацию политических и экономических систем, усложнение социально-стратификационной структуры общества, расширение культурных границ и социальных связей, увеличение информационных потоков, нарастание процессов глобализации, а также трансформацию нормативно-ценностной си-

стемы и моделей социального поведения индивидов. Эти и другие факторы социокультурной среды требуют постоянной адаптации современных россиян.
Социально-экономическая нестабильность в обществе осложняет достаточно противоречивую ситуацию на Кольском Севере, связанную прежде всего с неудовлетворительными демографическими и миграционными процессами, межнациональными и этническими отношениями, что непосредственно отражается на особенностях поведения, самосознания и идентичности северян.
Как известно, большая часть населения Мурманской области сформировалась за счёт миграции из регионов средней полосы и юга нашей страны в течение XX столетия. Если численность жителей Мурманской области в 1959 году составляла 568,2 тыс. чел., то в 1989 году – уже 1146,7 тыс. чел. [7].
В Мурманской области находятся десятки военных объектов, рыбопромышленных и горнодобывающих производств, морских судоходных компаний, судоремонтных комплексов, обусловивших приток населения в регион. Однако в последующие годы мы наблюдаем отток населения, в результате которого на начало 2012 года в Мурманской области осталось 787,9 тыс. чел. [8]. Одной из причин оттока населения с этой территории является тот факт, что поколение людей, приехавших на Север, в большинстве своём имело установку на возвращение в родные места. Кроме того, многие, живя на Севере, в силу определённых причин так и не стали ощущать себя коренными северянами. Другими причинами стали упадок экономики, недостаточно развитая социальная инфраструктура области, отсутствие широких возможностей для самореализации, а также сложная природно-климатическая среда и неблагоприятная экологическая обстановка, оказывающие негативное влияние на состояние здоровья людей.
Несмотря на значительную миграционную убыль населения, в последние годы вновь нарастает число прибывших. Так, в 2009 году в Мурманскую область прибыло 13873 чел. (выбыло – 18677 чел.), в 2010 году – 15863 чел. (22576 чел.), в 2011 году – 28967 чел. (35039 чел.) [3].
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживает 89% русских от общей численности населения, 4,7 – украинцев, 1,7 – белорусов, 0,8 – татар, 0,5 – азербайджанцев, по 0,2% – коми, мордвы, саамов, карелов [4]. Кроме того, здесь живут армяне, чуваши, башкиры, поляки, ненцы, марийцы и другие народности. Особенностью данной местности является её близость к странам Скандинавии, потому ⅔ всех приезжающих иностранцев – это граждане этих стран, а также Германии и Великобритании [5].
Таким образом, формирование идентичности населения Кольского Севера происходит, во-первых, в среде мигрантов, во-вторых, в условиях происходившего оттока населения, а вместе с ним нарастающего дефицита социального капитала. В данных условиях социологический анализ идентификации становится чрезвычайно актуальным.
Идентичность неизменно связана с отождествлением людей с общностями и группами, среди которых они живут, работают и удовлетворяют свои потребности. Представители групп и общностей, с которыми человек себя идентифицирует, обозначаются им в качестве «своих», или «мы-сообществ», с которыми отсутствуют идентификации, – «чужих», «несвоих», или «они-сообществ». Иными словами, социальная идентичность является результатом осознания индивидом членства в той или иной социальной группе. Окружающие человека группы и сообщества являются своеобразным зеркалом, которое отражает статус, род занятий, личностные и поведенческие характеристики данного индивида в настоящем, прошлом и обозримом будущем.
В этом аспекте идентичность исследовал Г. Тэджфел, считающий, что для достижения позитивной самооценки человек использует либо межгрупповые (социальная идентичность), либо межличностные (личностная идентичность) формы взаимодействия [9].
Идентичность как результат социальной интеракции рассматривали в рамках концепции символического интеракционизма Дж.Г. Мид и Ч. Кули. Они исходили из того, что она является результатом субъективного отражения мнения окружающих. С точки зрения П. Бергера и Т. Лукмана, идентичность представляет собой продукт социальной реальности: она закрепляется за каждой ролью, которую играет человек, соответствует его поведению, а поведение является ответом на специфическую социальную ситуацию [2]. Предельное выражение этой концепции мы видим у И. Гофмана, который рассматривал идентичность в условиях мно- жественности ролей. В его драматургическом подходе соединены идея М. Вебера о социальном действии как рациональном, осмысленном участниками взаимодействия, и идея Дж.Г. Мида о социальном действии с позиции принятия роли другого. Действующий человек создаёт для публики некий образ, производит на неё впечатление, более или менее целенаправленно раскрывая свою субъективность. Поэтому центральное понятие теории – понятие саморепрезентации, которое означает не стихийное выражение эмоций, а стилизацию выражения своих переживаний, адресованную зрителям [1].
Итак, идентичность человека связана с осознанием себя в межличностном взаимодействии и сознательной ориентацией на определённый стиль жизни, социальные роли, ценности, нормы. Социальную идентичность можно рассматривать в двух аспектах: с точки зрения ингруппового подобия (между членами одной общности, имеющими одну и ту же социальную идентификацию) и аутгруп-повой дифференциации (несмотря на сходство, имеется существенное отличие от тех, кто принадлежит к «чужой» группе). Эти два аспекта взаимосвязаны: чем сильнее идентификация со своей группой, тем значимее дифференциация этой группы от других, определяемых как «чужие». В этом случае при межличностных и межгрупповых взаимодействиях в регионе могут возникать явления недоверия, интолерантности, конфликты.
С целью выявления структуры и характера социальных идентичностей у мурманчан автором в феврале – марте 2013 года был проведён анкетный опрос среди жителей Кольского Севера. Целью анкетирования было выявление «своих» и «не-своих» групп и общностей, а также представлений об этих группах. В опросе приняли участие 312 человек в возрасте от 15 до 60 лет, из них мужчин – 132, женщин
– 180. Представители женского пола обозначены в выборке как наиболее социально активная группа (57,7% против 42,3). Респонденты в возрасте 15 – 25 лет составили 59,3%, 26 – 35 лет – 14,4, 36 – 45 лет – 16,7, 46 – 55 лет – 5,1, 56 – 60 лет – 4,5%.
За основу социологического анализа идентичности был взят конструктивистский подход (П. Бергер, Т. Лукман, Дж.Г. Мид, Г. Тэджфел), воплощённый в инструментарии, разработанном нижегородскими учёными под руководством профессора А.А. Иудина в 1999 – 2002 гг. в рамках исследования процессов идентификации граждан в социальном пространстве «своих» и «несвоих» групп и сообществ [6]. Респондентам было предложено назвать группы и общности, с которыми они ощущают близость или, напротив, считают чужими, и соотнести их с понятиями «мы» или «они». При анализе ответы типизировались и подсчитывались по количеству их упоминаний, а не по количеству опрошенных, так как число отождествлений в инструментарии не ограничивалось.
Опрошенные жители Мурманской области соотносят себя, главным образом, с первичными группами – друзья, подруги (147 упоминаний) и семья (123). В них на первом плане находятся непосредственные межличностные взаимодействия, общая социальная деятельность, эмоциональная окрашенность отношений.
Далее в качестве «мы-сообществ» выступает социально-профессиональная общность, которая представляет собой окружение индивидов, основанное на социальных контактах. Главной характеристикой этой категории является отсутствие устойчивых обязанностей и взаимоотношений. К ней были отнесены группы людей, среди которых респонденты учатся или работают, – трудовой коллектив или коллеги (28), одноклассники, однокурсники (11), индивиды опреде- лённого рода занятий, связанных с учебной деятельностью, – учащиеся, студенты (24), или непосредственно профессиональной – врачи, преподаватели, учителя, юристы, учёные и др. (15). Также в качестве «своих» групп и сообществ был указан круг знакомых, товарищей, приятелей, единомышленников (35).
Респонденты отождествляют себя с рядом номинальных, или условных, общностей. К ним были отнесены, во-первых, люди, обладающие теми или иными качествами – творческие (7), хорошие, позитивные (5), добрые (3), верные (1), надёжные (1), порядочные (1), адекватные (1), во-вторых, объединённые по разнообразным интересам, убеждениям и принципам, формирующим стиль и образ жизни индивидов, – люди с увлечениями и интересами (12), ищущие справедливости (1), карьеристы (1), законопослушные граждане (1).
Идентичности с большими группами и общностями, выступающими для респондентов в качестве «мы», представлены в меньшей степени по сравнению с первичными группами и контактными общностями. Их отличительной особенностью является значительное число представителей и опосредованность контактов. Большие группы включили в себя общности проживающих на одной территории, принадлежащих к одним религиозным верованиям, определённому социальному слою, классу, этносу.
Наибольшую роль в идентичностях опрашиваемых с большими группами играют духовно-религиозные общности. Духовные общности, с которыми респонденты ощущают солидарность, образуют люди, разделяющие их веру, являющиеся христианами или частью церкви как духовного организма (20).
Далее следуют идентификации с социально-демографическими общностями (14). Среди них – общности по признаку возраста (11) и пола (3). Говоря о возрасте, опрошенные в трёх случаях отождествляют себя со старшим поколением, в остальных случаях – с современниками, молодёжью, сверстниками.
Минимально проявлена идентичность по месту проживания индивидов: на федеральном (россияне (6)), региональном (северяне (1)) и локальном (мурманчане (2)) уровнях. В меньшей мере респонденты отождествляют себя с этническими общностями, полагая, что «мы» – это славяне (1) и русские (3). В двух случаях имеет место общность со средним и рабочим классом (табл. 1) .
Таким образом, основными критериями разграничения «своих» и «несвоих» стали родство, дружба, знакомство, общность профессии, занятий, религиозных верований, импонирование личностных качеств, позитивный стиль и образ жизни, возраст, место жительства, пол, этнические и классовые признаки.
Респонденты в подавляющем большинстве отождествляют себя со своим ближайшим окружением – семьёй, друзьями и подругами, кругом профессионалов, коллег, с которыми они вместе работают, учатся или занимаются одним и тем же делом. Эти люди обладают позитивными личностными качествами, ведут достойный образ жизни, являются законопослушными и порядочными гражданами.
Специфика традиционной хозяйственной, культурной, этнической составляющей Кольского края не нашла отражение в идентификациях граждан, за исключением трёх случаев территориальной идентичности, при которых было указано, что «мы» – это северяне и мурманчане.
К «несвоим» группам и общностям респонденты отнесли в первую очередь тех, кто не входит в круг их непосредственного общения, взаимодействия – посторонние (35), незнакомые (29), неблизкие люди (4), те, с кем отсутствует общение
Таблица 1. Распределение «своих» общностей и групп
|
Тип общности, группы |
Основания идентичности с общностями «мы» |
Кол-во |
Ранг |
|
Первичные группы (группы непосредственного общения) |
Дружба (друзья, подруги) |
147 |
1 |
|
Родство (семья, родственники) |
123 |
2 |
|
|
Контактные общности |
Круг товарищей, приятелей, знакомых, единомышленников |
35 |
3 |
|
Круг сотрудников, коллег, трудовой коллектив |
28 |
4 |
|
|
Круг людей определённого рода занятий (студент, учащийся, получающий знания) |
24 |
5 |
|
|
Профессиональные группы (врачи, преподаватели, учителя, юристы, учёные и др.) |
15 |
8 |
|
|
Круг одноклассников, однокурсников |
11 |
9 |
|
|
Номинальные (условные) общности |
Люди с определёнными качествами (хорошие, позитивные, добрые, надёжные, верные, творческие, порядочные, адекватные) |
19 |
7 |
|
Люди позитивного стиля и образа жизни (люди с интересами, ищущие справедливости, карьеристы, законопослушные граждане) |
15 |
8 |
|
|
Большие социальные группы и общности |
Духовно-религиозные общности (верующие, христиане, церковь) |
20 |
6 |
|
Возрастные социально-демографические общности (сверстники, молодёжь, старшее поколение) |
11 |
9 |
|
|
Половые социально-демографические общности |
3 |
12 |
|
|
Общности по месту жительства (россияне, мурманчане, северяне) |
9 |
10 |
|
|
Общности по этническому, национальному признаку (славяне, русские) |
4 |
11 |
|
|
Стратификационные, статусные группы (средний класс, рабочий класс) |
2 |
12 |
|
|
Итого |
466 |
- |
(1), с кем нет взаимопонимания, «общего языка» (2) – всего 71 наименование.
Значительная часть опрашиваемых признала как «несвоих» людей определённого стиля и образа жизни, прежде всего лиц девиантного (44 упоминания) и преступного поведения (35): людей, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, употребляющих алкоголь или наркотики (35), гомосексуалистов или иных представителей сексуальных меньшинств (5), извращенцев (2), живодёров (2), преступников/криминальные элементы, хулиганы, воры, убийцы, мошенники, коррупционеры, экстремисты (31)/и нарушителей закона (4).
Это также люди с определёнными (в данном случае негативными) личностными качествами: эгоисты и индивидуалисты (8), злые (4), плохие (3), безответственные (3), разгильдяи (2), буйные (2), меркантильные (2), завистливые (2), лицемеры (1), психически неуравновешенные (1) – всего 28 упоминаний.
В эту категорию вошли лица, с которыми у респондентов отсутствует взаи- мопонимание (21), а также враги (18) и недоброжелатели (2). К чуждым общностям отнесены те или иные неформальные объединения – нацисты (2), фашисты (1), скинхеды (1), готы (1), растаманы (1), иные «неформалы» (2) – всего 8 упоминаний; а также представители других поведенческих и мировоззренческих «кругов» – националисты (4), клубная молодёжь (2), гопники (2), быдло (1) – всего 9 упоминаний.
Некоторые большие общности и группы были отнесены к категории, с которой у респондентов отсутствуют идентичности, – стратификационные, статусные группы, представители которых – чиновники (11), политики (6), правящая элита (4), правительство (2), начальники (2) – всего 25 упоминаний. К ним примыкают общности, характеризуемые по имущественному положению, – бомжи (3), люмпены (2), безработные (1) – 6 наименований.
Важный критерий определения «несво-их» – духовно-религиозный. Для 17 респондентов духовно чужды люди, не яв- ляющиеся христианами (5), неверующие люди (4), сектанты (4), мусульмане (3), сатанисты (1).
В 15 случаях опрашиваемые имеют негативную идентичность с социальнодемографическими общностями – возрастными (11), половыми (4); в 12-ти – с общностями по национальному признаку – нерусскими (7), лицами кавказской национальности (2), американцами (1), китайцами (1), арабами (1); в 8 – по месту жительства – иностранцами (6), всеми россиянами (2); в 7 – с массовыми общностями – прохожими (5), пешеходами (1), покупателями (1).
В ряде случаев к «чужим» были отнесены представители непосредственного социального окружения респондентов – их товарищи, приятели, знакомые (27), соседи (4), а также первичных групп – друзья (4) и родственники (3), социально-профессиональных общностей – студенты, учащиеся (3), коллеги (3), люди определённой профессии – продавцы, гастарбайтеры, преподаватели, офисные работники, обслуживающий персонал (5). Два респондента в качестве «несвоих» указали представителей силовых структур – полицейских (1) и судебных приставов (1) (табл. 2) .
Итак, в качестве «несвоих» групп и общностей респонденты воспринимают в первую очередь людей, с которыми отсутствуют тесные социальные связи, а также лиц девиантного и асоциального поведения, имеющих, кроме всего прочего, негативные личностные качества и неприемлемое мировоззрение. Для значительной части опрошенных в категорию «чужих» вошли представители непосредственного социального окружения респондентов – товарищи, приятели, знакомые. Вышеуказанное подтверждает тот факт, что за пределами узкого числа лиц, с которыми осуществляются непосредственные социальные взаимодействия, идентификации становятся гораздо слабее и проявляются значительно реже.
Таким образом, «они», или те, с кем отсутствуют отождествления у опрошенных, – это незнакомцы, неродные, посторонние люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, являющиеся преступниками и нарушителями закона, а также безответственными, эгоистичными, злыми, завистливыми, меркантильными. Данные индивидуумы выступают врагами или недоброжелателями респондентов, с ними отсутствует взаимопонимание и «общий язык», они имеют высокое или, напротив, низкое социальное положение, не верят в Бога, не являются русскими по национальности или людьми одного с респондентами возраста или пола.
В результате сопоставления характеристик «своих» и «несвоих» общностей формируются дихотомии: родные – неродные, хорошие – плохие, законопослушные – преступники и девианты, верующие – неверующие, русские – нерусские и т. п. Механизм конструирования свойств данных общностей осуществляется посредством типизации и присвоения им взаимоисключающих, противоположных оценок и качеств. На основе полученных данных можно сделать вывод, что респонденты противопоставляют себя и свои группы неким «они» посредством симпатии к своему окружению (и, тем самым, – к себе) и антипатии ко всем остальным, априори худшим в сравнении с практически идеальными «мы».
Подводя итог идентификационным процессам, происходящим в Мурманской области, заключим, что социальная идентичность граждан как следствие выделения из социального окружения «своих» и «несвоих» групп и общностей связана, главным образом, с непосредственным окружением индивидов. Данные общно-
Таблица 2. Распределение чуждых, «несвоих» общностей и групп
|
Тип общности, группы |
Основания общности «Они» |
Кол-во |
Ранг |
|
Первичные группы (группы непосред ственного общения) |
Дружба (друзья, подруги) |
4 |
17 |
|
Родство (семья, родственники) |
3 |
18 |
|
|
Контактные общности |
Круг товарищей, приятелей, знакомых |
27 |
5 |
|
Круг профессионалов (преподаватели, продавцы, гастарбайтеры, офисные работники, обслуживающий персонал) |
5 |
16 |
|
|
Соседи |
4 |
17 |
|
|
Круг коллег, сотрудников |
3 |
18 |
|
|
Круг людей определённого рода занятий (студенты, учащиеся) |
3 |
18 |
|
|
Силовые структуры (полицейские, судебные приставы) |
2 |
19 |
|
|
Номинальные (условные) общности |
Круг незнакомых, посторонних, неродных, близких, с кем отсутствует общение |
71 |
1 |
|
Девианты (люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, сексуальные меньшинства, извращенцы, живодёры) |
44 |
2 |
|
|
Преступники (криминальные элементы, хулиганы, воры, убийцы, мошенники, коррупционеры, экстремисты, нарушители закона) |
35 |
3 |
|
|
Люди с негативными качествами (плохие, безответственные, буйные, разгильдяи, эгоисты, индивидуалисты, меркантильные, злые, завистливые, лицемеры, психически неуравновешенные) |
28 |
4 |
|
|
Круг лиц, с которыми нет взаимопонимания, «общего языка» |
21 |
7 |
|
|
Круг врагов, недоброжелателей |
20 |
8 |
|
|
Представители негативных поведенческих и мировоззренческих кругов (националисты, клубная молодёжь, гопники, быдло) |
9 |
12 |
|
|
Представители неформальных объединений (нацисты, скинхеды, готы, просто неформалы) |
8 |
13 |
|
|
Большие социальные группы и общности |
Стратификационные, статусные группы (начальники, чиновники, политики, правящая элита, правительство) |
25 |
6 |
|
Духовно чуждые общности (неверующие, нехристиане, сектанты, мусульмане, сатанисты) |
17 |
9 |
|
|
Общности по этническому, национальному признаку (нерусские, лица кавказской национальности, американцы, китайцы, арабы) |
12 |
10 |
|
|
Возрастные социально-демографические общности (дети, молодёжь, старшее поколение) |
11 |
11 |
|
|
Общности по месту жительства (россияне, иностранцы) |
8 |
13 |
|
|
Массовые общности (покупатели, прохожие, пешеходы) |
7 |
14 |
|
|
Общности по имущественному положению (бомжи, люмпены, безработные) |
6 |
15 |
|
|
Половые социально-демографические общности |
4 |
17 |
|
|
Итого |
377 |
- |
сти оцениваются респондентами исключительно через позитивные характеристики. В связи с этим мы можем констатировать, что при разграничении «своих» и «несвоих» групп значимыми являются не только признаки родства и непосредственного социального окружения, но и симпатии и антипатии, представления о должном и недолжном, одобряемом и не-одобряемом в поведении индивидов.
Важнейшими первичными группами, которые составляют основу социаль- ных идентичностей граждан Мурманской области, являются друзья и семья, где их представители с ранних лет приобретают опыт социальных отношений, постигают нормы и ценности, осваивают социально одобряемые модели поведения, усваивают основы социальной солидарности. Однако можно говорить о том, что «радиус доверия» северян заканчивается там, где участниками взаимодействия становятся не только враги и недоброжелатели, но и неродные, не- близкие люди, а также лица девиантного или преступного поведения, иного вероисповедания, люди с негативными личностными качествами. Отношение к данным лицам может служить фактором социоструктурного напряжения и источником социальных конфликтов на Кольском Севере.