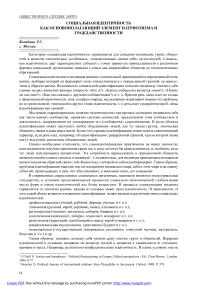Социальная идентичность как основополагающий элемент патриотизма и гражданственности
Автор: Колябина Т.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Общество: вчера, сегодня, завтра
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932496
IDR: 14932496
Текст статьи Социальная идентичность как основополагающий элемент патриотизма и гражданственности
Категория «социальная идентичность» применяется для описания индивидов, групп, общностей в качестве относительно устойчивых, «тождественных самим себе» целостностей. Социальная идентичность дает характеристику субъекту с точки зрения его принадлежности к различным формам социальной организации, начиная с семьи как микроячейки общества до геополитических образований.
Социальная идентичность индивида связана с сознательной ориентацией на определенный стиль жизни, выбирая который он формирует свою тождественность с определенной группой, ее ценностями и образом жизни. Возможность социальной идентификации помогает индивиду ответить себе самому на ряд жизненно важных вопросов: «Кто я?»; «Какое сообщество является моим?»; «Нужно ли оно мне?»; «Как оно связано с другими сообществами?» и т. д. Причем речь здесь идет не только о национальной идентичности, хотя, в первую очередь, исследования затрагивают именно эту проблему, но и о религиозной, этнической и других типах идентичности, т. е. речь идет о разработке проб- лемы идентификации как таковой1.
Мы можем охарактеризовать понятие «идентичности» как процесс осознания индивидом себя как части некоего сообщества, принятие системы ценностей, предлагаемой этим сообществом и деятельность, направленная на поддержание его (сообщества) существования. В роли объекта идентификации может выступать любое объединение людей, как то: малая группа, этническая общность, нация и даже мир в целом. Более того, процесс идентификации может носить символический характер, если речь идет, например, об идентификации с референтной группой, в роли которой также могут выступать различные объединения людей.
Однако необходимо учитывать, что самоидентификация практически не имеет ценности, если индивид не получает признания среди тех, к кому он хотел бы присоединиться, и, особенно, если это люди пользующиеся авторитетом. Эта потребность принадлежать к определенной общности является одной из самых сильных в индивиде2. Следовательно, для индивида принципиально важным является наличие обратной связи с той общностью, с которой он себя идентифицирует. Таким образом, проблема идентификации выводит нас на восприятие индивидом мира, себя в этом мире и на оценку событий, происходящих в нем, что обусловливает, в конечном счете, его поведение.
В современных сверхсложных социальных организмах, каковыми являются индустриальные государства, в условиях продолжающихся процессов социально-экономической глобализации число форм и типов идентичностей все более возрастает. В процессе социализации индивид справляется со многими ролями, каждая из которых имеет свою идентичность. В зависимости от того, какой объект является основанием идентификации, можно выделить различные типы социальных идентичностей:
профессиональная (ученый, рабочий, фермер, учитель и т. п.);
этническая (русский, еврей, украинец, немец, итальянец и т. п.);
региональная (москвич, каталонец, сибиряк, баварец и т. п.);
политическая (коммунист, либерал, социалист, монархист и т. п.);
религиозная (верующий, колеблющийся между верой и неверием и т. п.);
конфессиональная (мусульманин, христианин, буддист и т. п.);
национальная (государственная) (американец, россиянин, советский человек, австралиец, бельгиец и т.п.) и др.
Таким образом, индивид осознает себя членом сразу многих групп и общностей. Иерархия идентичностей в сознании индивида не является догмой и меняется в зависимости от ситуации, времени и места. Например, религиозно-конфессиональная идентичность. В одних условиях она не играет существенной роли и вообще никак не выражена в ролевой функции («религиозный индифферентизм»), в другой - выступает на первый план и даже доминирует, вытесняя другие идентификации индивида (исламские ваххабиты). Эта активизация конфессиональной идентичности может быть связана не с признаками «пробуждающейся» религиозности, а с признаками политической и этнической коллективной солидарности, стимулированной процессом социальных коммуникаций.
Значительное место в теоретическом дискурсе относительно феномена патриотизма занимает тема возможности сосуществования национальной (государственной, российской) идентичности и идентичности этнической. Этническая идентичность базируется на языке, культуре, традициях, обычаях предков, территории и др.
Национальная (российская, гражданская) идентичность предполагает соотнесение себя («Я») с определенным индификационным пространством государства, политическим и культурноисторическим гражданским сообществом (образ «Мы»).
Необходимо указать на непротиворечивость этих двух идентичностей. Характеризуя личность, мы говорим: «Этот русский человек Иванов - патриот своей страны, защитник Родины, истинный россиянин!».
Поскольку большинство современных государств являются полиэтническими, гражданско-политические и культурные показатели национальной идентичности имеют приоритет над подобными показателями этнической идентичности. Тем не менее, в нашей стране, в условиях становления российской государственной идентичности, как показывают многочисленные социологические исследования, на уровне массового сознания приоритет остается за этнической, а не государственной идентичностью. Значительная часть населения не идентифицирует себя с гражданами России.
Социальную идентичность индивида можно рассматривать с двух ракурсов: личного (индивидуального) и группового. Личная, индивидуальная идентичность индивида является более устойчивой категорией, так как в условиях глобального социального переустройства индивид «сам» в большей степени, чем в групповой идентичности может определять выбор и глубину собственной идентификации.
Исходя из предложенной проблематики, необходимо изучение принадлежности личности к групповым идентичностям на этническом, религиозном, социально-политическом, региональном и государственном уровнях. Нас интересует возможность расширения образа социального «Я» через преодоление сформированных идеологических и политических стереотипов мышления, а также трансформация ценностных отношений к государству, обществу, личности. Социальная идентичность должна рассматриваться в следующих плоскостях:
-
когнитивной (связанной с конкретным знанием о себе как члене общностей и с осознанием особенностей этих общностей, а также отличий «своих» и «чужих»);
-
ценностной (различные ценностные представления о себе и своих общностях, разрешениях и запретах, нормах и требованиях);
-
аффективной (оценка значимости своего членства в общности, определение позитивных и негативных установок по отношению к «своим» и «чужим»);
защитной (упорядочивание социального опыта как реакция на дестабилизирующую социальную среду).
Это наиболее важные функции социальной идентичности. Поэтому она должна рассматриваться в качестве инструмента, оказывающего влияние на ценности, стратегию и нормы поведения личности. Этот «инструмент влияния» сам постоянно трансформируется в изменяющемся обществе. Согласно модели социальной идентификации А. Тайфеля и Дж. Тернера1, преодоление кризиса социальной идентичности и достижение более положительных социальных идентичностей возможны через ряд следующих стратегий:
-
попытки оставить группу, утратившую, с точки зрения индивида, свою позитивную определенность («социальная мобильность»);
-
попытки изменить ценности или фокус процесса сравнения («социальное творчество»);
вызов или прямой конфликт с большинством («социальная конкуренция»).
Исходя из вышеизложенного, вполне логично, что сам кризис социальной идентичности можно рассматривать как «утрату позитивной определенности группового членства».
Э. Эриксон рассматривает более широкий ракурс проблемы кризиса идентичности. Он анализирует кризис личной идентификации в социально-историческом контексте. Моменты перехода от одной личностной целостности к другой, знаменующие продвижение к новой стадии развития, он называет кризисами. Однако понятие «кризис» в концепции Эриксона не означает обязательно болезненный конфликт противоположных тенденций. Это, прежде всего, выбор личности между «прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой», и, главное, «нельзя разделять личный рост и изменение общества, кризис идентичностей в индивидуальной жизни и современные кризисы в историческом развитии»1.
По мнению Эриксона, резкое изменение условий существования зрелой личности вызывает у нее потерю чувств личной тождественности и исторической непрерывности. Для замены старой идентичности новой зрелая личность обязана включиться в новые социальные отношения, систему ценностей и оценок, сформировать новые цели.
Какое понимание кризиса социальной идентичности предлагается социальными психологами, социологами, исследовавшими эти проблемы на постсоветском пространстве в последние годы?
Следующие трактовки кризиса социальной идентичности представляются наиболее удачными: «Кризис социальной идентичности - отражение в сознании индивида несоответствия сложившейся идентификационной системы личности новым требованиям реальности (внешней и внутренней), которое актуализирует необходимость сознательного выбора новой идентичности, умение следовать этому выбору. Этот процесс сопровождается переоценкой имеющихся ценностей и выработкой новых, а также динамикой соотношения бессознательных и осознанных механизмов идентификации, которые проявляются в условиях кризиса»2.
«Кризис социальной идентичности в ситуации нестабильности общества можно определить как ощущение утраты смысловой насыщенности прежних форм социальной идентификации и поиск новых, отвечающих потребности человека в смысле и способствующих наиболее адекватной адаптации в изменившейся социальной реальности»3.
Так, если ранее самоидентификация индивида во многом зависела от позиции, занимаемой им в обществе и по большей части определялась от рождения, то в настоящем мы уже не можем однозначно утверждать, что индивид, являясь гражданином данного государства, и воспринимает себя как гражданин, поскольку одновременно он может являться членом общественного движения, служащим транснациональной корпорации и т. д. Мы уже не можем утверждать, что именно государственная принадлежность индивида является для него основополагающей.
Помимо этого наблюдается рост взаимозависимости современного мира, что проявляется не только в сфере экономики, но, что может быть имеет еще большее значение и в сфере культуры, а в результате происходит размывание национальных идентичностей. Индивид «ощущает» существование глобального общества, но он не рассматривает себя как часть этого глобального общества. Жители этого общества выступают для него не как «мы», частью которых он мог бы считать себя, но как «они», которые могут быть для него не просто представителями чуждого сообщества, но и врагами. «Иными словами, социальная группа (также как и отдельные индивиды)... вместо ощущения включенности в существующие нормы глобального общества чувствует себя отличной от этого общества и болезненно переживает эту свою непохожесть и отличия, она переживает «драму отчуждения». Этот феномен, который характерен для развитого общественного сознания, получил название «не - идентификации»4.
Возможно, как следствие подобного процесса мы можем рассматривать попытки возрождения своих национальных традиций в том виде, в каком они якобы существовали раньше, также как и замыкание внутри некоей локальной общности. Индивид, поддаваясь патерналистским настроениям, сознательно или неосознанно пытается спрятаться от враждебного мира. Ощущая ослабление влияния на него его собственной национальной идентичности и не будучи в состоянии рассматривать
ОБЩЕСТВО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА себя как часть глобального сообщества, он пытается изолироваться от окружающего его мира, создавая свои собственные мифы, и главным из которых является его миф о той прекрасной родине, которую он потерял и которой более не существует. Как следствие возникновения данного мифа в некоторых обществах наблюдается не только стремление к воссозданию национальных традиций, но и установка на изоляционизм. Более того, этот же феномен вызывает возникновение таких стихийных массовых протестов, которые направлены против различного рода международных организаций, как, например, МВФ, с чьей ролью индивиды и связывают само возникновение и развитие глобального общества. Другой стороной данного процесса может служить стремление индивида к замыканию в рамках малой общности или корпорации, представители которой являются для него «своими», в противовес «чуждому миру».
Таким образом, с позиций социальной психологии, общие закономерности кризиса социальной идентичности в период радикальных социальных изменений указывают на то, что кризис социальной идентификации проявляется в утрате смысловой определенности соотношения себя («Я») с теми или иными социальными группами и категориями. Это выражается в отсутствии или снижении уровня самоидентификации в некоторых ее типах, что стимулирует поиск других групп и социальных категорий, идентификация с которыми наиболее полно и адекватно отвечает на вопрос: «Кто я?» в изменившейся социальной реальности, реализуя основную потребность индивида в смысле жизни и способствуя более успешной адаптации в существующих реалиях. Главным критерием социального становления личности является «степень ее независимости, уверенности, самостоятельности, раскрепощенности, инициативности, незакомплексованности, проявляющаяся в реализации социального в индивидуальном, что обеспечивает реальное социокультурное воспроизводство человека и общества»1.
Согласно современным теоретическим исследованиям, идентичность - изменяющаяся структура, она развивается на протяжении всей жизни, проходит через преодоление кризисов, может изменяться в прогрессивном или регрессивном направлениях, т. е. быть «успешной» (эффективной) или «негативной» (индивид отклоняет любые взаимодействия). Собственно кризисной идентичностью разумно считать состояние людей, не способных в силу разных причин (в том числе и вследствие психологический ригидности) адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Неустойчивое, лабильное состояние социальной идентичности становится нормой современных обществ. Как замечает З. Бауман, ситуация в современных обществах существенно отличается от той, что была до середины минувшего века, и важнейшим элементом этой перемены становится приход новой «краткосрочной» ментальности на смену «долгосрочной».
Заслуживает внимания концепция идентичности разработанная известным британским социологом Э. Гидденсом. Он продолжает исследование идентичности не просто как психологической проблемы, а как проблемы современного мира и истории. В своей работе «Модерн и самоидентичность» Гидденс стремится показать идентичность и самоидентичность как явления современной культуры2. По определению Гидденса, идентичность и самоидентичность не даны в процессе деятельности, а создаются и поддерживаются в рефлексивной активности повседневной жизни. Гидденс представляет собственную гипотезу структуры идентичности. Идентичность - это два полюса, с одной стороны, абсолютное приспособленчество (конформизм), с другой, - замкнутость на себя. Британский социолог предлагает понятие «общей идентичности», которую он характеризует как часто неосознаваемую уверенность в принадлежности к какому-либо коллективу, общие чувства и представления, разделяемые членами коллектива, выражаемые как в практическом, так и в дискурсивном сознании. В целом, Гидденс является противником постструктуралистских и большинства постмодернистских теорий, предрекающих кризис способности современного человека обрести свою идентичность.
Итак, в зарубежной и отечественной гуманитарной мысли сложились определенные общие и особенные традиции исследования феномена идентичности как психологического и социокультурного феномена. Их суть заключается в том, что идентичность имеет структурное строение, основными параметрами которого являются целевой, содержательный и оценочный. Обычно происходит выделение двух аспектов идентичности: личностного и социального. В современных теориях личностный аспект чаще всего трактуется как вторичный по отношению к социальному. Он формируется на основе использования выработанных в процессе социальной категоризации понятий.
Список литературы Социальная идентичность как основополагающий элемент патриотизма и гражданственности
- O'Neill О. Justice and boundaries//Political Restructuring in Europe: Ethical perspectives/Ed.: Chris Brown. London, 1994. Р. 77.
- Boucher D. Political theories of international relations from Thucydides to the present. Oxford, 1998. Р. 379.
- Tajfel А., Turner J.C. An Integrative Theory of Intergroup Conflict//The Social Psychology of Intergroup Relations/Ed. By W.G. Austin, S. Worchel. Monterey (Cal), 1979. P. 33-47.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
- Иванова Н.И. Исследование социальной идентичности у студентов педагогических вузов//Идентичность и толерантность. Сборник статей. М., 2002. С. 135.
- Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла//Психологический журнал. 1999. № 3. Т. 20. С. 48-58.
- Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX в. М., 1997. С. 171.
- Фельдштейн Д.И. Социализация и индивидуализация -содержание социального взросления и социально-психологической реализации детства//Мир психологии. 1998. № 1 (13). С. 10.
- Баразгова Е.С. Американская социология: традиция и современность. Екатеринбург, 1997. С. 76, 101.