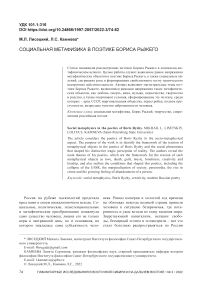Социальная метафизика в поэтике Бориса Рыжего
Автор: Лисецкий Михаил Львович, Камнева Лолита Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 3 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению поэтики Бориса Рыжего в социально-метафизическом аспекте. Целью работы служит выявление рамок напряжения метафизических объектов в поэтике Бориса Рыжего, а также социальных явлений, сыгравших роль в формировании свойственного поэту трагического восприятия действительности. Авторы выявляют магистральные темы поэтики Бориса Рыжего, являющиеся рамками напряжения таких метафизических объектов, как любовь, смерть, вина, музыка, одиночество, творчество и родство, а также очерчивают условия, сформировавшие эту поэтику, среди которых - крах СССР, маргинализация общества, перестройка, подъем преступности, возросшее чувство заброшенности человека.
Социальная метафизика, борис рыжий, творчество, современная российская поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/170195757
IDR: 170195757 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-3/74-82
Текст научной статьи Социальная метафизика в поэтике Бориса Рыжего
Россия на рубеже тысячелетий предстала пред нами в своем апокалиптичном исходе. Социальные, политические, экзистенциональные и метафизические преобразования пошатнули само существо человека, лишив его не только веры в завтрашний день, но и основания, на котором зиждилась сама субъектность чело- века. Развал империи и холостой ход времени на обломках некогда великой страны привели человека в ситуацию безвременья, где потерянность и ужас встали во главу видения мира. Зверствующий капитализм, негации свободы, безмерный эгоизм и эгоцентризм – все это стало болезнью распространяться по России и нашло выражение в повсеместных нарывах бандитизма, коррупции, наркомании, безработицы, алкоголизма – всего того, в чем сам человек теряет собственный облик. «Второй план бытия», связанный с миром метафизических проявлений, оказался застлан вуалью простой и жестокой попытки выжить и сохранить свое тело, оттолкнувшись от души. В связи с этим Юрий Мамлеев писал о необходимости именно нравственной революции, «частичном возврате консервативных ценностей» для построения идеального будущего России [10, с. 135]. Основную же роль в этом процессе родоначальник «метафизического реализма» отводил системе образования, уповая на великий труд учителей и преподавателей. С таким видением сложно поспорить, однако это не единственный путь. Возвращение к человеку лежит не в меньшей степени и на плечах тех, кто творит культуру, воссоздавая ее метафизическое основание. К этой категории людей в равной степени можно отнести писателей и поэтов, которые через индивидуальное восприятие и выражение воспроизводят вечное и всечеловеческое. Это всечеловеческое есть человек возможный, вырастающий из хаоса жизни, который сам по себе уже содержит потенциальный порядок. Поэт, явившись в мир, ведет поколение, а «в сердцах людей он угадывает ту мысль, которая способна разорвать как можно больше цепей» [11, с. 319]. Словно Данко, поэт, вырвав свое сердце, освещает путь людям, заблудившимся во тьме обыденной и суетливой жизни, принуждая их оправиться ото сна, впервые взглянуть на мир. Слово поэта иссекает человеческое существо молнией свободы, принуждая его к действию: воспрять над собой, «расстаться со слепившейся с ним скорлупой» [8, с. 15] или же навеки утонуть в мире биологического порядка. И тут уже все зависит от тайны события, человеческой встречи, равного диалога и способности к онтологической открытости другому.
Вслед за Мерабом Мамардашвили метафизика и метафизические явления понимаются здесь как то, что «ненаблюдаемо, что сверхэмпирично, чему нельзя придать наглядного значения и, более того, что даже нельзя вообще определить» [9, с. 4]. Однако такая неопределимость не мешает этим феноменам тотальным образом влиять на нашу жизнь. Также она не мешает и постоянному воспроизведению рамок напряжения метафизических объектов в мире и жизни человека. Таким образом, метафизика, пожалуй, оказывается самым близким и одновременно тайным в нашей с вами жизни, ибо, являясь в мир, она ошарашивает нас, ведет путями раннее неизвестными и недоступными. Только благодаря явлению метафизического плана, через его переживание и привнесение его в мир через поступок, человек свершается как человек, впервые осуществляется в своей целостности, как человек возможный.
Творчество является той средой, где в полноте разворачивается жизнь метафизики. Она становится возможной благодаря родниковому, бездонному, божественному началу в человеке, которое обусловливает и характер самой творческой энергии. Этот характер заключается в ее прибавлении, но не перераспределении. Это значит, что сам акт творения привносит в мир то, чего еще не было, что еще не существовало в своем конкретном проявлении. Из потенциального, возможного, что заключено в человеческом существе, вырывается реальное. Метафизический план существует вне зависимости от отношения к нему конкретного человека, но только через единичную жизнь он может реализоваться в мире. Рассмотрение Н.А. Бердяевым творчества как процесса прибавления энергии к бытию явным образом сходится с мыслью М.М. Бахтина, который в своей работе «К философии поступка» само поступление рассматривает схожим образом. Так, хотя бытие и является целым, благодаря человеческому поступку оно расширяется, приобщая к себе все новые проявления единичной жизни. Таким образом, оказывается, что «когда человек остается в своем бытии, он не творит. Когда человек творит, он объективирует ценности, создает несоизмеримое с собственным бытием» [2, c. 344]. Такая объективация ценности есть приобщение одной конкретно переживаемой жизни к чему-то большему, принадлежащему к жизням каждого человека и покоящемуся в них. Человек осуществляется как существо социальное, но не на биологическом уровне пустой коммуникации и кухонных сутолок, а на уровне метафизическом, истинно человеческом.
Жизнь человеческая есть творчество, рассматриваемое наиболее широким образом. Именно через него человечек преодолевает биологическую иерархию, которой он принадлежит по праву рождения. И именно через творчество, поступок, приобщение к культуре, человек в полной мере являет свою распятость между дольним и горним мирами. «Человек – это, очевидно, единственное существо в мире (как человеческое существо в том смысле, что оно не порождается Природой, той, которую мы можем изучать в биологии объективированно, в какой-то картине, отвлеченной от себя), пребывающее в состоянии постоянного зановоро-ждения, и это зановорождение случается лишь в той мере, в какой ему удается собственными усилиями поместить себя самого, свою мысль, свои стремления, поместить в поле, в некоторое сильное магнитное поле, сопряженное предельными символами» [8, с. 25]. Эти предельные символы никогда не остаются завершенными, поскольку каждый момент времени они ускользают от человеческого бытия, и лишь через акт творчества раз за разом они являют себя миру, находят свое единственное место в бытии. Человек являет собой потенцию метафизических объектов, через жизнь которых само человеческое существование приобретает смысл. Жизнь человека оказывается постоянным становлением, в процессе которого он раз за разом выходит за свои собственные границы.
Искусство представляет собой область, где сконцентрировано субъективное переживание человеком объективной действительности. Это сфера образов, которая дает нам «ощущение целостного переживания экзистенциональной реальности», через приобщение к которой мы утверждаемся в истинности пережитых нами явлений [6, с. 9]. Такое переживание проявляет себя через причастность единичного существа человека миру рамок метафизического напряжения. В частности, именно в мире поэтического человек встречается с тем, что сам он не смог бы выразить речью обыденной во всей полноте и целостности. Накал, страсть, любовь и тотальность поэтического слова захватывают человека, проясняя для него же настоящее положение дел. «Все совершается здесь и теперь, собрано в этот момент, который середина мира», – одно из правил поэзии, данных В.В. Бибихиным [3, с. 24]. И эта середина мир есть полнота отраженного мира поэтом.
Столкновение тектонических плит тысячелетий повлекло за собой не только крах привычного и обыденного мира – мира мифа и мечты. Оно также породило и гениев настоящего дня. Именно на обломках былого порядка, в пространстве застывшего времени явил себя миру Борис Рыжий. «Последний советский поэт» – так озаглавил свою статью о поэтике Б. Рыжего Алексей Машевский [12]. И именно таковым он был. Человек, пропустивший через себя молнию уходящей эпохи; человек, способный запечатлеть мировое пожарище века; человек, собственными глазами видевший зарождение новой страны (как в социальном, так и в метафизическом планах) – вот кем являлся Борис Рыжий. Но не только имени последнего советского поэта достоин Борис Рыжий. Его небезосновательно можно назвать и первым поэтом зачинающегося огня нового миллениума, «первым российским поэтом». Именно в отношении распятости между веками, выпадения за рамки мерно тикающего механизма исторического порядка, соскальзывания в пропасть безвременья интересен поэтический мир Б. Рыжего. Он смог не только искусно запечатлеть настроение ужасающего настоящего момента, но и воспеть человеческое, вечное и божественное. «Поэтом должен быть тот, кто умеет больше всех любить» а Борис умел любить по-настоящему [11, с. 319]. Любить, не только пылая страстью, но каритативно, снисходительно, возвращаясь к самому человеку, в мир, из которого поэта вырывает гений. Находить настоящее в человеке даже там, где, казалось бы, царит антрацитовая ночь, где жизнь тонет в грызне ближнего с ближним, где только силе, хитрости и предательству осталось одно лишь место. Даже в столь глубинно ужасающей точке истории поэт способен найти истинное. Лишь бы там был человек.
Обстоятельства, в которых оказался поэт, не могли не отразиться на его поэтическом мире. Родина Бориса Рыжего – Свердловск. Во времена СССР город являлся центром экономического и культурного развития страны. Металлургия, индустриальное и жилищное строительство переживали свой рассвет. Люди, сплоченные единым порывом, строили утопию, что вот-вот должна была ознаменовать собой победу социализма. Однако начало 1990-х гг. лезвием опасной бритвы полоснуло горло некогда великой столицы Урала. Атомизация общества, вызванная экономическими и социальными изменениями, выразилась в вырождении и заброшенности человека. Кромешное необузданное одиночество, выливающееся в отчаяние, охватило людей. А ведь еще вчера каждый был призван служить своему государству, каждый находился на своем месте во имя исполнения долга. Ледяной ветер времени пробирал людей. Он не позволял человеку найти ближнего, дабы согреться от тепла другой души. Ни
Богу, ни Родине сам человек оказался более не нужен. В такой атмосфере проходили годы становления и жизни Бориса Рыжего.
Как-то раз Сергей Маркович Гандлевский скажет: «Свердловск – это ад». А Борис не без основательно согласится: «Это ад». Но и в аду обитают человеческие души. Души, что полнятся жизнью человеческой, со всей свойственной ей противоречивостью. Позже этот ад для Бориса станет целым поэтическим миром, что будет воспет, но воспет не в хвалебных одах, а скорее в темных элегиях.
«Да, трагедия поэта – в том, что он поэт. Вот и все. Больше никаких трагедий у него не должно быть», – сказал Борис в своем интервью, данном в рамках программы «Магический кристалл» [15]. Трагедия же эта заключается в расколе, свойственном существу поэта, что проявляет себя в несоответствии идеального наличествующему, прошлого – настоящему, внутреннего – внешнему. Этот же раскол характерен и для всей жизни Бориса Рыжего. С самого его детства угадывалось непримиримость двух миров, к которым принадлежал будущий поэт. Семья интеллигентов: мать – врач-эпидемиолог, отец – ученый-геофизик, волею судьбы, а точнее «по спешке и безамбициозности Бориса Петровича», отца поэта, в 1980 г. оказывается заброшенной в Чкаловский район города Свердловск. В народе же его прозвали Вторчермет [49, с. 16]. Слава этого района весьма специфическая: суровые взгляды, разгул криминальных элементов, потасовки и пьяные драки – обыденность для этого места. Но что же Борис? Он спешил угнаться за славой своего теперь уже родного места. Участвовал во всех дворовых и школьных перепалках, и сам иной раз не брезговал быть заводилой.
«Быть, быть как все – желанье Пастернака – моей душой, которая чиста была, владело полностью, однако мне боком вышла чистая мечта» [12].
Это четверостишье приоткрывает нам не столько тайну биографического характера жизни поэта, сколь тайну жизни его души. Раскол, который уже был упомянут, расплескивается в данных строках. «Быть как все», примириться с окружающим, стать частью того мира, к которому ты просто не можешь принадлежать. Мечта и жизнь оказываются в непримиримом противоречии, которое выражается в желании приобщиться к наличествующему и невозможности это сделать из-за принадлежности к совершенно другому миру. Но тут же открывается возможность – возможность подарить безбрежную любовь людям и миру, кои окружают поэта. Пусть мир этот страшен и жесток, пусть в нем есть кровь и предательство, пусть царствуют в нем приблатненная романтика и бездна одиночества, но в этом же мире есть светлая любовь и крепкая дружба, свет живых глаз и неутихающая буря молодости, ослепляющая искренность и неуемное желание оставаться человеком. Быть тем, кем быть ты не можешь. Воспеть поэтическим словом мир. Мир живой и возможный. Подарить ему всего себя. Ему, что вобрал в себя героическое и низкое, дышащее и давно умершее, горнее и дольнее. Все это и есть жизнь во всем своем разнообразии, что неискушенного человека может ужаснуть. Весь этот мир и поселил в себя Борис Рыжий, однако сам стал к нему непричастным.
Тема человеческого одиночества красной нитью проходит через творчество Бориса Рыжего – одиночества, что звериными лапами рвет человеческую душу, оставляя ее неприкаянной на белом свете. Однако и в одиночестве человек готов найти свое призванье, свой долг:
«Я человек, и так мне суждено –
В цепи великой хрупкое звено.
И надо жить, чтоб только голос креп,
Чтоб становилась прочной наша цепь» [13, с. 131].
И цепь эта есть все человечество. И цепь эта есть все человеческое. Ведь слава поэта не в том, чтобы быть узнаваемым, оплачиваемым, признанным. Она и не в бездумном декламировании его строф массами. Слава поэта в мелодии, что он смог через слово привнести в этот мир. В мелодии, что своим звучанием смогла заставить человека остановиться, взять передышку от нескончаемой гонки во имя преуспевания в мире дольнем, пробудиться ото сна. И лишь эта остановка позволяет вспомнить человеку то, кем он на самом деле является. Вспомнить, что лишь от него одного зависит, продолжит ли человек быть точкой фокуса двух разных миров – биологического и метафизического, или же это напряжение угаснет, отдав свое место застлавшему тьмой низменному началу человека. Это есть сверхзадача поэта – спасти мир словом, возвращающим человека к самому себе. Мир, который пропитан жестокостью, честолю-
РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ бием, алчностью и эгоизмом, но в котором все еще тлеет огонек музыки.
Сама же эта музыка является еще одной центральной темой в творчестве Бориса Рыжего. Она есть отзвук божественного в человеческом мире. Она есть само искусство, в том числе и искусство оставаться человеком, в столь непритязательном на первый взгляд мире. Именно музыка своей мелодией окрашивает мрачные и привычные картины жизни того времени. Она звучит на похоронах, она же звучит и в простой полуденный час. Музыка есть нечто настоящее, что-то, что придает смысл нашим с вами жизням. Она есть любовь, она есть смерть, она есть искренность.
«Озирались сонные трамваи, и вода по мордам их текла.
Что еще, Иринушка, не знаю, но, наверно, музыка была.
Скрипки ли невидимые пели или что иное, если взять двух влюбленных на пустой аллее, музыка не может не играть» [13, с. 483].
Последняя строка этих двух четверостиший дает нам понять, что там, где есть что-то настоящее, есть и музыка. Она ли льется из истинного или же само истинное окаймлено ей – это не столь важно. Но важно то, что льющейся мелодии открывается высшее – то, что мы рискуем упустить, завязнув в беге торопливых будней. Музыка – онтологическая данность, пронизывающая все бытие. Она есть тотальность, подступающая к последним границам самого существа человека. Через вслушивание в нее возможно понимание жизни. Жизни настоящей. И вместе с тем сама настоящая жизнь невозможна без нее.
«В небесах музыка сочинялась
Вечная – на смертные слова» [13, с. 289].
Само слово, взятое в своей простоте, оторванности есть нечто почти пустое, смертное, принадлежащее к миру биологического порядка. Но тут же есть слово, которое пронизано музыкой. То слово, что является уже чем-то нераздельным с мелодией бытия. Придавая жизни смысл, музыка еще и гармонизирует ее, приводит жизнь к оправданности и необходимости. Музыка есть то, через что поэт вступает с нами в диалог. Это его дар. Она же и преследует поэта. Благодаря музыке мы оказываемся способны обратиться к миру как к целокупности, наконец-то охватить его на мгновение своим внутренним взглядом. Мы соскальзываем в нее, отдаваясь полностью ее мелодии; неразрывно связывая себя самих с музыкой. В философии тема музыки и мелодии тесно связана с темой настроения в смысле настройки на мысль. Музыка, заражая нас, ведет своей непроторенной дорожкой к переживанию уникального бытия, заключенного в строках стихотворения.
«Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубашке белой с черным бантом играть ночами на ветру.
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца под небом, выпитым до дна, — спи, ни о чем не беспокойся, есть только музыка одна» [13, с. 243].
И этим одним едина жизнь. Это одно есть отзвук имени Божьего в нашем мире. Музыка – это мост, переброшенный между мирами дольнего и горнего. Она обеспечивает нам выход к миру духа, к миру метафизик. Подчинившись ее зову, мы – люди, почти забывшие собственные имена, вновь возвращаемся в лоно высшего порядка. Через музыку мы вновь приобщаемся к любви, долгу, чести, достоинству, дружбе. Через нее же реализуется некий нравственный ориентир, путеводной звездой указывая нам путь жизни в согласии и умиротворении с самими собой и миром. Музыка есть всеобщее, через которое и сам человек приобщается к мировому. Музыка звучит и после смерти. Через нее и сам человек продолжается даже после своего ухода.
«И я вишу на красных проводах в той вечности, где не бывает жалость.
И музыку включи, пусть шпарит Бах – он умер; но мелодия осталась» [13, с. 310].
Такая музыка есть присутствие ушедшего человека, мировая память о нем. Память, дарующая бессмертие ушедшей душе. Ведь со смертью уходит только человеческое тело, но его жизнь, его утвержденное место в бытии, равно как и его поступки, продолжают жить веками.
«Хранить целый мир, уже отсутствующий, через хранение себя, последнего оставшегося в мире места, где целый мир еще имеет себе место в памяти об отсутствии его спасенного целого – это, может быть, и безумное, но единственное дело, оставшееся достойным человека» [5, с. 137]. Так поступает поэт, нутро свое изображая в поэтических строфах, заключая в них целый мир, таящийся в каждом из нас. Это и есть талант – выразить то, что выразить попросту невозможно. Это и есть талант – выразить целую жизнь. Мы же как читатели раз за разом, охваченные настроением, приобщаемся к миру Другого, возрождая не только его, но и рамки напряжения метафизических объектов, ловкой рукой творца заложенные в кипящий мир рифмованных слов.
Кем оказывается лирический герой Бориса Рыжего? Тем, кем он хотел быть, но стать не мог. Это все еще продолжающийся раскол поэта и человека, мира обыденных вещей и Божественного слова. Лирический герой Бориса Рыжего именно герой. Он готов взвалить всю вину мира на свои плечи – вину, что является онтологической. Это есть некая эгоцентрическая попытка хотя бы своей жизнью искупить то, что не дает вздохнуть. Отдать свою жизнь другим для их исхода в светлый мир. Такая вина есть одна из отличительных характеристик русского самосознания. Наиболее известно ее запечатлел Ф.М. Достоевский: «Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого на земле человека» [7, с. 148]. Эта вина за несовершенство мира, которое берет свое начало из жизни каждого отдельного человека, но не каждым отдельным человеком она переживается.
«Во всем, во всем я, право, виноват, пусть не испачкан братской кровью, в любой беде чужой, стоящей над моей безумною любовью, во всем, во всем, вини меня, вини, я соучастник, я свидетель, за все, за боль, за горе, прокляни за ночь твою, за ложь столетий» [13, с. 149].
Это вина поисков искупления. Это то, что в «Самопознании» Н.А. Бердяев обозначил как «Каждый отвечает за всех» [1, с. 84]. И этот ответ за всех ложится на плечи лирического героя и поэта, ибо именно он призван изменить мир со всем ему свойственным несовершенством, именно ему предстоит своими строками обратиться к человеческому в человеке, молнией ознаменовав возвращение к горнему. Она же есть и сама попытка выразить то глубинное, что лежит в личности человека, но сокрыто стяжательством мира наличествующего. Мир Бориса Рыжего живой, но входящий в конфликт с миром дольним, ибо первый мир оказывается миром онтологической открытости другому, он пронизан искренней любовью и заботой, исходящей из глубины человеческого существа. В нем нет богобоязни, нет и рабства пред миром экономическим. Лирический герой сострадает нищим, лишенным всего. Он же и любит настоящих людей, не оглядываясь на их социальный статус. Это есть великая любовь, тот дар поэта, который он привносит в мир. Такая забота и любовь поистине важное, ценное в наших с вами жизнях. Это есть обращенность человека к человеку, способность к узнаванию себя в Другом.
«Дай нищему на опохмелку денег.
Дай просто так и не проси молиться за душу грешную, – когда начнет креститься, останови…» [13, с. 506].
Богобоязнь отсутствует и в других стихотворениях поэта. Но не из неверия, а скорее из отчаяния, которым была пропитана жизнь тех лет. Борис еще не успел прийти к Богу, но само Божественное присутствие в том или ином виде постоянно возникает в строках поэта. В мире безвременья попросту не осталось места настоящему Богу, с которым возможен диалог. Диалог, который М. Бубер выделял как «Я – Ты». Бог тех лет – судья и палач, непреклонный и всевластный.
«Бери и жги, глаза мои сухи
Мне ничего, господь, не надо» [13, с. 149].
Жена Бориса Рыжего Ирина Князева в одном из интервью заметила: «Мы, наверное, лишнее поколение, оттуда нас выкинули, а сюда еще не попали» [15]. Этот социальный вакуум, это пространство отсутствующего воздуха, не могло вместить в себя надежды и веры. Оно замыкало в себе хаос социальных явлений, изъятого из него горнего света. Борис Рыжий же в своих стихах хотел быть в одном ряду с людьми, кто просто и бесхитростно проживал свою жизнь в
РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ аду Свердловска, но такая роскошь поэту была недоступна. Даже по своему происхождению (семья интеллигентов) он был не готов влиться в мир мрачный и жестокий. Ему было трудно примиряться с тем, что унижает человеческое достоинство, что лишает человека человеческого. И он не молчал, он писал, предоставляя свое сострадание и жалость в поэтическом слове.
Поэтика Бориса Рыжего также отмечена линией смерти. А.А. Семина относит некоторые его стихи к новому жанровому образованию – к «посмертному» стихотворению, «для которого характерен лирический герой, говорящий о себе и о своей жизни в прошедшем времени» [14, с. 94]. Но не жанровый разбор данного феномена выступает для нас на первый план. Смерть в ее метафизическом понимании завершает сам повествующий субъект. Лирический герой предстает перед нами в своей целостности, законченности. Смерть выводит действующее лицо за границы наличествующего мира, вынося его за скобки обыденной жизни. С такой позиции герой взирает на мир не из самого мира, но отвлеченно от него, говоря как бы из мира горнего. Читатель встречается с законченностью, цело-купностью субъекта, с которым в жизни нашей дольней мы просто не могли бы столкнуться. Но и сама смерть не обрывает жизнь лирического героя Бориса Рыжего. Скорее с этого момента жизнь начинает распускаться, давая возможность поэту для ее всеохватывания.
«Я жил как все – во сне, в кошмаре –
И лучшей доли не желал» [13, с. 182].
Это кошмар социальной действительности того периода, где человеческое было забыто в попытках выжить и сохранить в комфорте свою жизнь. И поэт чувствует, что «не главная цель человека прожить во что бы то ни стало как можно дольше» [4, с. 198]. В этом Аду ничего более не остается, как жить свою маленькую жизнь маленьких дел, силясь не до конца потерять человеческий облик.
«Но не божественные лики,
А ли́ца у́рок, продавщиц
Давали повод для музы́ ки
Моей, для шелеста страниц» [29, с. 182].
Но и в этом Аду звучит прорывающаяся мелодия бытия, что дает поэту глоток свежего воздуха, оставляя его на службе пробуждения человека. Сама тема сна не случайна. Чаадаев пишет: «Мне кажется, что сон есть настоящая смерть, а то, что смертью называют, кто знает? – может быть, оно-то и есть жизнь?.. Дело в том, что истинная смерть находится в самой жизни. Половину жизни бываем мы мертвы, мертвы совсем, не гиперболически, не воображаемо, но действительно, истинно мертвы… Жизнь убегает от нас повсеминутно, часто к нам возвращается, но никак нельзя сказать, чтобы мы жили не переставая. Жизнь разумная прерывается всякий раз, как исчезает сознание жизни» [17, с. 22]. Ответственное поступление в этой жизни, ее сознательное проживание, утверждение своего единственно-единого места в бытии и есть только жизнь, пробуждение в ней. Все же остальное – сон, заключающийся в безответном следовании дольнему, «человеческому, слишком человеческому». Смерть же лирического героя есть попытка изъятия себя из этого омертвевшего пространства, первый шаг на пути пробуждения ото сна. Это есть заклание своей «жизни» на алтарь попытки взглянуть на мир всевидящими глазами.
Где есть смерть, там есть и одиночество, ведь опыт смерти всегда остается делом одиноким. Одиноким человек приходит в мир, таковым он и уходит из него. И не с кем разомкнуть это горе. Но это же одиночество создает родство между людьми, требует от них, от каждого, ответственного поступка, чтоб наконец в течение жизни хоть раз приблизиться к Другой человеческой душе. Это есть событие встречи, внезапное и поражающее, молнией ослепляющее человека, вбрасывающее его в пространство онтологической открытости другому.
«Под огромною звездою Сердце – под Рождество С каждой тварью земною Ощущает родство» [13, с. 230].
Сердечное чувство, чуткость души, дух ведут человека сквозь невзгоды дольнего мира. Это же чувство надчеловеческого, внезапно возникающее в нас, и поддерживает родство между нам, но и вина, и заброшенность не отступают ни на шаг, ведь человеком мало родиться, им еще надо стать, в каждый момент жизни утверждаясь через поступок, утверждая в себе и через себя объекты метафизические. Отсюда и исходит понимание, что дело спасения человека обречено на провал. О Другом можно толь- ко позаботиться, совершив попытку разомкнуть цепи одиночества, обозначив свое собственное присутствие. Но спасение его лежит лишь на его собственных плечах.
«А помнишь юность? Странным светом
Озарены и день и ночь.
Закрой глаза, укройся пледом –
Я не могу тебе помочь» [13, с. 205].
Борис Рыжий погиб 7 мая 2001 г. Социальный ад действительности определил его смерть. Хотя он и находил человеческое там, где это было сложно отыскать, для примирения с миром этого оказалось мало. Борис в своих стихах говорил о самом простом, самом близком нам. О том, что составляет наши человеческие жизни. Он говорил о любви, одиночестве, смерти, искусстве, музыке. Он говорил о нас с вами. И это есть то наследие, через которое мы можем прийти к самим себе. Это тот великий дар, который ценой собственной жизни был пожертвован нам Поэтом.
Список литературы Социальная метафизика в поэтике Бориса Рыжего
- Бердяев Н.А. Самопознание. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
- Бибихин В.В. Грамматика поэзии. Новое русское слово. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.
- Бибихин В.В. Лес. СПб.: Наука. 2011.
- Бибихин В.В. Мир. Язык философии. СПб.: Азбука, 2016.
- Докучаев И.И. Перформанс и культура: морфология и историческая типология способов разрешения экзистенциального противоречия // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 2. С. 6-14.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 14. Братья Карамазовы. Л.: Наука, 1975.
- Мамардашвили М.К. Возможный человек. М.: РИПОЛ классик, 2019.
- Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
- Мамлеев Ю.В. Статья о России вечной к лекции в МГУ // Мамлеев Ю.В. Статьи и интервью. М.: Издательская группа Традиция, 2019. С.118-138.
- Маццини Дж. Эстетика и критика. Избранные статьи. М.: Искусство, 1975.
- Машевский А.Г. Последний советский поэт. О стихах Бориса Рыжего // Новый мир. 2001. № 12. URL: https://magazines.gorky.media/ novyi_mi/2001/12/poslednij-sovetskij-poet.html
- Рыжий Б.Б. В кварталах дальних и печальных. Избранная лирика. Роттердамский дневник. М.: Искусство-XXI век, 2021.
- Семина А.А. Голос из небытия: «Посмертный дневник» Георгия Иванова и Бориса Рыжего // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 12. С. 88-95.
- Телепередача Э. Корниловой «Магический кристалл». Поэт Борис Рыжий (Свердловск, СГТРК, 2000 г.). URL: https://biqle.ru/ watch/68374683_166140616
- Фаликов И. Борис Рыжий. Дивий камень. М.: Молодая гвардия, 2015.
- Чаадаев П.Я. Отрывки и афоризмы. М.: Директ-Медиа, 2016.