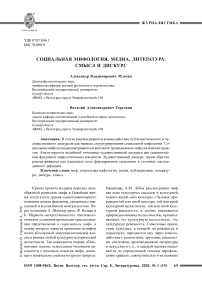Социальная мифология, медиа, литература: смысл и дискурс
Автор: Млечко Александр Владимирович, Горелкин Виталий Александрович
Рубрика: Журналистика
Статья в выпуске: 19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимодействие публицистического и художественного дискурсов как процесс структурирования социальной мифологии. Социальная мифология рассматривается в контексте традиционных мифологических практик. Анализируется медийный потенциал художественный дискурса как семантический фундамент мифологических концептов. Художественный дискурс, таким образом, рассматривается как идеальное поле формирования семантики в условиях массмедийного дефицита.
Миф, социальная мифология, медиа, публицистика, литература, дискурс, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/149131948
IDR: 149131948 | УДК: 070:7.046.1
Текст научной статьи Социальная мифология, медиа, литература: смысл и дискурс
Кризис проекта модерна породил своеобразный ренессанс мифа в Новейшее время, когда в поле зрения социогуманитарного познания попали феномены, связанные с идеологией и коллективной ментальностью. Через осознание А. Шопегауэром, Ф. Ницше и К. Марксом «искусственности» эпистемологических установок происходит кристаллизация представления о современном мифе , в основу которого ложится признание за мифом почти абсолютной эпистемелогической власти в рамках любой культурно-исторической целостности. Так появляются теории, объясняющие генезис осмысления человеком реальности с помощью понятия мифа, имеющего изначально социокультурную природу.
Например, А.М. Лобок рассматривает миф как поле культурных смыслов и культурной памяти какой-либо культуры: «Человек прирожден той или иной культуре, той или иной культурной целостности, той или иной культурной реальности, а, значит, оказывается прирожден некоему полю смыслов, пронизывающих эту культурную целостность, эту культурную реальность. Смысловые ориентиры культуры, в которой он рождается и существует, передаются ему через взаимодействие с родителями, друзьями, школьными учителями, произведениями литературы и искусства и т. п., и каждый человек оказывается до определенной степени нерефлексивно сращен с совокупностью этих неявных смысловых установок культуры. Эти неявные установки и ориентиры культуры создают своеобразную смысловую размерность человеческой жизни, накладывают на человеческую жизнь ее смысловой масштаб. Они-то и составляют своего рода смысловой миф культуры, который так или иначе усваивает каждый взрослеющий внутри данной культуры ребенок» [11, с. 82–83].
Таким образом, у Лобока во многом си-нонимизируются миф и такие понятия теории дискурса, как «пресуппозиция» и «общий когнитивный фонд» или «категории очевидности» из области социологии символического 1. «Миф, – пишет Лобок, – это своего рода язык-шифр, на котором разговаривают между собой представители одной культуры. Миф – это тайный язык смыслов, сама суть которого состоит в том, чтобы сделать данную культуру эзотеричной, непроницаемой для представителей других культур. Миф – это знак избранничества человека, появившегося на свет в данном племени. Это тайная подкладка его жизни, сам смысл которой состоит в ОТДЕЛЕНИИ этого человека от всех прочих, родившихся в иных культурных общностях» [11, с. 21] 2.
Калькирование базовых элементов традиционных мифов в новых исторических и эпистемологических условиях, позволившее говорить о феномене «современного мифа», не могло в то же время не подразумевать наличие и дифференцированных признаков последнего. Их вычленение связано не только с естественными метаморфозами социальноисторического характера, сопровождаемыми неизбежными мутациями ментального плана, но и с оценочными характеристиками феномена мифа. В самых общих чертах эту ситуацию можно представить следующим образом: «Какое место в жизни современного человека занимает “миф”, мифология как система взаимосвязанных мифов? Вот точка зрения Ницше: живую греческую “культуру” погубили “интеллектуалы” – Сократ и софисты. Сходную куртину мы наблюдали и много позже: Просвещение нанесло сокрушительный удар по христианской “мифологии”. Однако существует мнение, что у современного человека есть-таки “мифы”: правда, это пустые, неадекватные, а то и вовсе “ложные” мифы прогресса, равенства, всеобщего образования и того стерильного благополучия, к которому призывают рекламы. Примирить эти точки зрения можно, видимо, только договорившись о следующем: “модернизм” сокрушает старый, привычный жизненный уклад (то есть ритуалы и сопутствующие им мифы) – и люди чувствуют себя опустошенными: они не могут удовольствоваться голыми абстракциями и потому спешат заполнить пустоту незрелыми, сметанными на скорую руку, обрывочными мифами, в которых выражается желаемый, даже обязательный порядок вещей» [21, с. 208–209].
Таким образом, становится возможным выделение трехчастной хронологической структуры мифа. Первый период – магический – охватывает архаическую стадию развития цивилизаций и завершается около 500 года до нашей эры, «осевой эпохой» (К. Ясперс) 3, временем зарождения мировых религий и «вступления» человека в Историю (М. Элиаде). Второй – религиозный – характеризуется обретением мифологическими элементами новой, религиозной, формации. Кризис этого периода, как известно, был связан с наступлением европейского рационализма, породившего третью «мифологическую эпоху» – эру современного мифа 4.
Это время характеризуется объективацией так называемых социальных и политических мифов, иногда в научной литературе разделяемых, но чаще первые понимаются расширительно и включают в себя и мифологию политическую. В этом (впрочем, не являющимся принципиальным) аспекте мы вполне солидарны с А. Ульяновским, позиционирующим эти феномены к мифологии «классической», в частности, в области их генезиса: «В политической мифологии аспект ее создания прозрачен и сводится к вопросу групп идеологического воздействия, но как быть в вопросах более анонимной социальной мифологии? <…> В области социальной мифологии актуален вопрос заказчика, – групп интересов, создателей социальной мифологии – в области же мифологии классической явных создателей мифов чаще всего обнаружить не удается (хотя и прослеживаются влияния жрецов на определенные трансформации мифологического материала, обоснованные соци- альными функциями мифа) – но вместе с тем миф есть порождение стихийного народного творчества. Социальные мифы произрастают из интересов. Наиболее ярко это проявляется в политической идеологии (для нас синонимичной политической мифологии)» [17, с. 49].
На основе анализа различных определений социального мифа А. Ульяновский вычленяет ведущие черты последнего: «Первой такой чертой социального мифа является наличие власти, воли, заданной извне цели» [18, с. 70]; вторая (на наш взгляд, самая репрезентативная и генетически связывающая современный миф с традиционным) – это установка на объединение «живущих в мифе», он «служит установлению и поддержанию мировоззрения». Третья черта очень тесно связана со второй и как бы служит ее «необходимым условием» в рамках современной эпис-темы: «Единственное, в чем солидарны мыслители, – в некоторой степени ложности мифа, как будто миф искажает действительное положение вещей для живущих в мифе...» [18, с. 71].
Достаточная правильность и справедливость этого замечания бесспорна. Но и в нем отчетливо звучит нерелевантное, на наш взгляд, противопоставление «неизбежной лжи» мифа и «нагой истины», мерцающей далекой жемчужиной «реальности» в темных слоистых водах скрывающей ее мифологии. В более «сглаженном» виде оно представлено у Э. Дюркгейма, аналогизирующего социальные функции религии и идеологии: «Дело не в том, верную или ложную картину дает идеология. Важно уяс- нить, зачем нужно ложное сознание, как оно помогает людям находить общий язык, вырабатывать коллективные представления. Иллюзии нужны людям, ибо без них индивид не способен “пристроиться” к окружающему миру. Ложное представление возникает не на социальной, а на антропологической основе (курсив наш. – А. М., В. Г.). Заблуждение помогает человеку ориентироваться, затем закрепляется в обычаях и воспринимается как общепринятая истина. Но реальное содержание заблуждения можно отыскать только во внутреннем мире человека, в его психологическом складе» (цит. по: [4, с. 375]).
То есть иллюзорность есть одно из главных свойств всякого мифа – ценности и поня- тие блага культуры изменчивы, относительны и во многом конвенциональны – но наиболее «осязаемым» она становится в периоды даже не столько кризиса, сколько «усталости» культуры, периоды девальвации былых и поиска новых ценностей и ориентиров. Проблема лишь в том, что таких периодов становится все больше, они все чаще сменяют друг друга, и, не успев разочароваться в одних, «живущие в мифе» очаровываются другими «идеалами», о которых наперебой говорят многочисленные «голоса культуры» и самый громкий из них – средства массовой информации и, шире, средства массовой коммуникации.
Тем самым мы подходим к наиболее, пожалуй, репрезентативному признаку современного мифа – к его аксиомной и глубочайшей генетической связи с мифом традиционным , по модели которого он строится, функционально-образные ресурсы которого он использует. Именно в этом аспекте наблюдается удивительное единодушие всех исследователей, а разнообразие многочисленных параллелей между феноменами не может не поражать неискушенного читателя. И тем не менее, весь корпус этой проблематики так и остается, на наш взгляд, скорее заявленным, чем решенным. Как заметил знаток обоих феноменов К. Флад, «теоретики священной мифологии не проявляют (или почти не проявляют) интереса к проблемам идеологии, а специалисты по идеологии не рассматривают (или почти не рассматривают) мифологические стороны своего предмета» [22, с. 7].
И современный, и традиционный мифы сполна отвечают тому краткому определению, которое мы встречаем у того же К. Флада: «Миф есть форма объяснения» [22, с. 32]. Являясь феноменом коллективной ментальности, с одной стороны, и системой символов, с другой, миф выступает формой символической коммуникации, которая, в свою очередь, и обеспечивает в конечном счете социальную стабильность и устойчивость в конкретных рамках культурной аксиологии и прагматики. «Миф удовлетворяет потребность в целостном знании о мире, организует и регламентирует жизнь общественного человека (на ранних этапах истории – полностью, на более поздних – совместно с другими формами идео- логии, наукой и искусством). Миф предписывает людям правила социального поведения, обусловливает систему ценностных ориентаций, облегчает переживание стрессов, порождаемых критическими состояниями природы, общества и индивидуума» [12, с. 19].
Многими исследователями, как мы видим, миф видится как своеобразный «шифр», с помощью «языка» которого закодированы «реальные» процессы, происходящие в обществе, остается лишь овладеть этим кодом, а вместе с тем и контролем над ситуацией: «Системное видение проблемы общества, напротив, требует философских обобщений, касающихся природы человека, человеческой цивилизации и национальной истории. В некоторых важнейших для человека аспектах он остается равен своим первопредкам, для которых мифы были насущной реальностью, переданной современным поколениям уже в виде реальности психики и основ мировоззрения. Будучи выявленными, ни с успехом могут быть применимы к исследованию политических процессов» [9, с. 12]. При этом, как справедливо заметил М. Элиаде, «речь идет не о “пережитках” первобытного менталитета. Некоторые аспекты и функции мифологического мышления образуют важную составляющую часть самого человеческого существа» [24, с. 193].
Корреляция традиционного («классического») мифа и мифа современного проходит, разумеется, в рамках определенных категорий, главными из которых выступают категории времени и пространства . «При этом, – отмечает современный исследователь, – пространство и время культуры осмысляются не просто как категории, фиксирующие ее абстрактные свойства, но как формы, онтологически выражающие связь человека и культуры. А потому и сама эта связь была представлена в качества характеристики бытия самой культуры, позволяющей, с одной стороны, уточнить то, как внешнее переходит во внутренний мир человека, а с другой стороны, выявить свойства человека как “проводника” и носителя функций культурного пространства и времени» [1, с. 16].
Выступая основными структурообразующими категориями всякой культурной целостности, эти категории формируют или во вся- ком случае создают предпосылки для формирования такой эпистемологической позиции, как картина мира, определяемая как «система представлений человека о мире и о его месте в нем, комплексное представление о конкретной действительности и о взаимоотношениях с ней человека» [5, с. 54]. Это – пусть и широкое – определение «картины мира» позволяет говорить о сопоставимости этого понятия с понятием мифа, хотя бы в том, что и картина мира, и миф конструируются – оказываются словно бы сотканными (ср. с дословным переводом слова «текст» – текстура, ткань) из более «мелких» символических элементов. В первом случае это «система образов (и связей между ними) <…> составляющая картину мира», а также «порождаемые этой своеобразной конфигурацией образов и сведений жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации и духовные ориентиры» [5, с. 69].
В случае же мифа перед нами система, обладающая несомненной, но трудно улавливаемой и подвижной иерархичностью. Например, структуру современной мифологии можно рассматривать скорее как взаимодействие и взаимопереплетение нескольких мифов – национального, «образовательного», научного, «западного» и т. д. 7 В разное время разные мифы занимают доминирующее положение в массовой ментальности. Считается, что самый мощный миф современной западной культуры – это миф потребления, социальными практиками которого выступают брэндинг и реклама 8.
Наиболее крупными системообразующими элементами любого мифа выступают, как известно, мифологемы (или мифемы), заслуга вычленения которых принадлежит К. Ле-ви-Стросу. Французский этнограф, используя методы структурной лингвистики в области изучения «языка мифов», прибегает к помощи «эмического» термина для объяснения характера отношений между мифологическими элементами: «Каким образом мы можем распознать и выделить эти большие составляющие единицы, или мифемы? Мы знаем, что их нельзя уподобить ни фонемам, ни морфемам, ни семантемам и что они соотносятся с более высоким уровнем: в противном случае миф ничем не отличался бы от любой другой формы высказывания. Придется, видимо, искать их на уровне фразы. <…> Иными словами, каждая большая структурная единица по природе своей есть некое отношение» [10, с. 88].
Позже, когда этот термин стал достоянием «мифологической критики», он стал пониматься более широко, с учетом его конкретного семантического наполнения 9, – как заимствование у мифа мотива, темы или ее части и дальнейшее их воспроизведение в более поздних литературных образованиях. При всем разнообразии использования этого термина в современной филологической и даже социогуманитарной мысли неизменным остается учет того, что при этом «мифологические представления... исследуются главным образом в плане их концептуального содержания, основные моменты которого составляют органическое единство» [3, с. 7].
В полной мере соглашаясь с тем, что мифологемы «представляют собой строительные камни и конституенты мифа» [23, с. 58], мы традиционно вкладываем в этот термин то содержание, которое обычно составляло объем литературоведческого понятия «мотив», но с учетом того, что «эмический уровень предполагает изучение мотива в структуре нарратива, с учетом его релевантных системных свойств и признаков, как парадигматических так и синтагматических» [15, с. 44] 10. Каждый миф (а вместе с тем и ориентирующиеся на него текстовые образования) структурируются как набор определенных мифологем, которые, в свою очередь, представляют собой «символические пучки» – находящиеся в системных отношениях друг с другом символические образы, инвариантность которых обеспечивает мифологеме и мифу в целом семантическую проницаемость. К примеру, мифологема «Бога-жертвы» пронизывает собой сразу несколько мифов и «сакральных текстов» (или даже «прецедентных текстов») различных культур, но всякий раз ее реализация происходит в рамках конкретной символической «сетки» со своим образным потенциалом.
Не вызывает никаких сомнений общая для исследователей современной мифологии убежденность в том, что чрезвычайная акти- визация архаических мифологических элементов в массовом сознании происходит именно в эпохи социальных кризисов, когда на первый план выходит эмоциональная оценка 11 происходящих событий и катаклизмов. Одним из первых об этом сказал Э. Кассирер в работе «Политические мифы»: «Во все критические моменты социальной жизни человека рациональные силы, до этого успешно противостоящие воспроизводству древних мифологических представлений, уже не могут чувствовать себя столь же уверенно. В такие моменты миф способен возвратиться не чем иным, как персонификацией коллективных желаний. Миф всегда рядом с нами и лишь прячется во мраке, ожидая своего часа. Этот час наступает тогда, когда все другие силы, цементирующие социальную жизнь, по тем или иным причинам теряют свою мощь и больше не могут сдерживать демонические, мифологические стихии» [8, с. 384].
«Формальное» закрепление мифы получают в разнообразных текстах культуры, но, как мы видели, если раньше – в традиционных мемуарах – доминирующее положение занимали священные (и иные семантически гомеоморфные им) тексты, то сегодня их место занимают художественные и медиатексты 12, а также различные формы их симбиоза, например, «прецедентный» художественный фильм или даже тексты научно-популярного дискурса. Здесь мы подходим е еще одному значимому для нас свойству всякого мифа – к его нарративной природе. Это подтверждает и рецептивный генезис термина – в «Поэтике» Аристотеля это слово означает сюжет, повествовательную структуру, фабулу. То есть миф всегда мыслился как некий рассказ, повествование, история («история мифа»), и тем самым он всегда выступал антитезой «логосу» – диалектичекому рассуждению, философии, «науке» 13. Миф словно «укладывает» событие в рамки заранее установленного рассказа, где оно – увиденное и оцененное – обретает дискурсивную «плоть и кровь», понятое , оно возвращается из хаоса небытия и усилиями интерпретаторов становится со-бытием для всех тех «живущих в мифе», кто склонен считать его таковым.
Сегодня, когда форму наррации обретает идеология, справедливость последне- го наблюдения, думается, бесспорна. Д. Ниммо и Д. Комбс, во многом выражая общий исследовательский взгляд на проблему, в работе «Подсознательная политика» определяя миф как «символический образ политической реальности», экстраполирует свое понимание и на идеологию, которая, являясь «собранием мифов», предстает у американских теоретиков как «передаваемые из уст в уста образы и сюжеты, привязывающие людей к мифологической карте политического мира, которая будет служить им ориентиром в их представлениях о прошлом, настоящем и будущем» [27, p. 83].
Естественным и «формальным» носителем нарративных конструкций выступает художественный дискурс , о беспримерной роли которого (и об искусстве как о главной «прелести культуры» вообще) в кристаллизации социальной мифологии было сказано достаточно много: «В значительной мере мифологизации истории способствует литература, художественное творчество вообще. Архетипы бессознательно формируются в протосюжеты, которые воспроизводятся во всех художественных произведениях. Эти протосюжеты заключены в отношениях оппозиций, отношениях доминирования – подчинения – соперник-соперник, охотник-жертва, повелитель-слуга, хранитель-расхититель – и из сферы представлений о прошлом легко перетекают в сферу представлений о текущих событиях, в современных условиях – в политику» [9, с. 69]. То есть в каком-то смысле можно говорить о мифе как об «идеологии в картинках», «идеологии в рассказах», идеологии, «адаптированной» для массового сознания 14. Миф всегда «работает» с образами, помещенными в пространственно-временной континуум, ему чужды теоретические абстракции – так, лишь немногие представители советской элиты могли похвастаться блестящим знанием трудов основателей марксизма-ленинизма, тогда как с действиями основных персонажей драматической борьбы за «мировое господство» были хорошо знакомы все.
Публицистический или философско-публицистический («теоретический») дискурс не в силах артикулировать миф в одиночку, но способен заставить прочесть художественные тексты с помощью социологического кода.
При этом «художественная литература» (fiction) мыслится как массмедиа, как «пропаганда», замещающая и восполняющая дискурсивные практики СМИ в условиях их семантического дефицита: «В те давние времена, время, когда массмедиа были недостаточно развиты, литература была доминирующим, абсолютно коммуникационным пространством, и никто не спрашивал, что такое литература, ибо ответ был бы один: литература – это все, что есть в качестве культурного наследия нации! Именно литература навязывала политически полезные правила чтения и понимания (коммуникации), выступала общенациональным мифом спасения» [13, с. 69]. В этом смысле и в этой эпистемологической ситуации литература становится медиа, границы дискурсов становятся максимально подвижными, а симеозис – максимально интенсивным. Миф позволяет интенсифицировать медийную и литературную дискурсивность как форму наррации в условиях тотальной пантекстуальности, как семантический симбиоз коммуникативных и художественных практик.
Список литературы Социальная мифология, медиа, литература: смысл и дискурс
- Баркова, Э. В. Пространственно-временной континуум в онтологии культуры / Э. В. Баркова. – Волгоград : Изд-во Волг. гос. ун-та, 2002. – 300 с.
- Бодрийар, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийар. – М. : Культурная революция : Республика, 2006. – 269 с.
- Горан, В. П. Древнегреческая мифологема судьбы / В. П. Горан. – Новосибирск : Наука. Сиб.отд-ние, 1990. – 335 с.
- Гуревич, П. С. Социальные мифы / П. С. Гуревич // Реклама: внушение и маниауляция. Медиаориентированный подход. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2001. – С. 369–382.
- Жидков, В. С. Искусство и картина мира / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – СПб. : Алетейя, 2003. – 464 с.
- Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 256 с.
- Кармадонов, О. А. Социология символа / О. А. Кармадонов. – М. : Academia, 2004. – 352 с.
- Кассирер, Э. Политические мифы / Э. Кассирер // Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2001. – С. 382–397.
- Кольев, А. Н. Политическая мифология: Реализация социального опыта / А. Н. Кольев. – М. : Логос, 2003. – 384 с.
- Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М. : Наука, 1985. – 536 с.
- Лобок, А. М. Антропология мифа / А. М. Лобок. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 1997. – 688 с.
- Неклюдов, С. Ю. Структура и функция мифа / С. Ю. Неклюдов // Современная российская мифология / сост. М .В. Ахметова. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. – С. 9–27.
- Подорога, В. А. Время чтения / В. А. Подорога. – М. : Канон + РООИ «Реабилитация», 2021. – 376 с.
- Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. – М. : КАНОН-прессЦ : Кучково поле, 2002. – 624 с.
- Силантьев, И. В. Поэтика мотива / И. В. Силантьев. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 296 с.
- Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.
- Ульяновский, А. В. Социальный миф как брэнд: философская антропология, эстетика, на границах запрета, etc. В 2 т. Т. 1 / А. В. Ульяновский. – СПб. : Роза Мира, 2003. – 234 с.
- Ульяновский, А. В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы / А. В. Ульяновский. – СПб. : Питер, 2005. – 544 с.
- Ульяновский, А. В. Маркетинговые коммуникации : 28 инструментов миллениума: с учетом новейших тенденций, диктуемых современным рынком / А. В. Ульяновский. – М. : Эксмо, 2008. – 425 с.
- Уорнер, У. Живые и мертвые / У. Уорнер. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2000. – 671 с.
- Уэллек, Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М. : Прогресс, 1978. – 326 с.
- Флад, К. Политический миф. Теоретическое исследование / К. Флад. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 263 с.
- Хюбнер, К. Истина мифа / К. Хюбнер. – М. : Республика, 1996. – 447 с.
- Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М. : Академический проект, 2001. – 240 с.
- Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с.
- Mc Guire, M. Ideology and Myth as Structurally Different Bases for Political Argumentation / М. Mc Guire // Journal of the American Forensis Association. – 1987. – № 3 (24). – Р. 16–26.
- Nimmo, D. Subliminal Politics: Mythsand Mythmakers in America / D. Nimmo, J. E. Combs. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980. – 424 p.
- Pareto, V. Mind and Society: A Treatise on General Sociology / V. Pareto. – New York : Dover, 1963. – 368 p.
- Sorel, G. Reflections on Violence / G. Sorel. – New York : Collier, 1961. – 278 p.