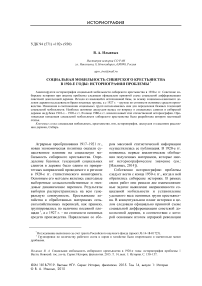Социальная мобильность сибирского крестьянства в 1920-е годы: историография проблемы
Автор: Ильиных Владимир Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируется историография социальной мобильности сибирского крестьянства в 1920-е гг. Советские сибирские историки при анализе проблемы следовали официально принятой схеме социальной дифференциации советской доколхозной деревни. Исходя из имеющейся источниковой базы, за основу социально-классового деления деревни исследователи брали посевные группы, ас 1927 г. - группы по стоимости основных средств производства. Изменения в соотношении социальных групп использовались ими для определения базовых тенденций социальной мобильности. Наиболее активная дискуссия велась по вопросу о социальных сдвигах в сибирской деревне на рубеже 1910-х - 1920-х гг. В конце 1980-х гг. начался новый этап отечественной историографии. Оригинальная концепция социальной мобильности сибирского крестьянства была разработана автором настоящей статьи.
Социальная мобильность, крестьянство, нэп, историография, дискуссия о классовом расслоении деревни, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/147219219
IDR: 147219219 | УДК: 94
Текст научной статьи Социальная мобильность сибирского крестьянства в 1920-е годы: историография проблемы
Аграрные преобразования 1917–1921 гг., новая экономическая политика оказали существенное влияние на социальную мобильность сибирского крестьянства. Определение базовых тенденций социальных сдвигов в деревне было одним из приоритетных направлений проводимого в регионе в 1920-е гг. статистического мониторинга. Основным его методом являлись ежегодные выборочные сельскохозяйственные и гнездовые динамические переписи. Результаты выборки распространялись на всю генеральную совокупность. Крестьянские хозяйства в обработанных материалах сельскохозяйственных переписей, как правило, группировались по величине посевной площади 1, а с 1927 г. – по стоимости основных средств производства. Параллельно со сбо- ром массовой статистической информации осуществлялась ее публикация. В 1920-е гг. появились первые аналитические обобщения полученных материалов, которые имеют историографическое значение (см.: [Ильиных, 2014]).
Собственно историографию проблемы следует вести с конца 1950-х гг., когда к ней обратились сибирские историки. В рамках своих работ они решали две взаимосвязанные задачи: выявление направленности социальной мобильности и установление удельного веса основных групп крестьянства. В концептуальном плане историки в целом следовали официально принятой схеме социальной дифференциации советской до-колхозной деревни, в соответствии с которой основным итогом аграрной революции
-
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01725).
в масштабах всей страны стала радикальная смена вектора социальной мобильности крестьянства. Если в предыдущий период в России шел интенсивный процесс капиталистического раскрестьянивания (разложения крестьянства на сельский пролетариат и сельскую буржуазию за счет «вымывания» средних слоев), то в 1917–1920 гг. произошла его нивелировка в форме осереднячива-ния. Число бедняцких и кулацких хозяйств существенно сократилось, а середняцких – увеличилось. Развитие товарно-денежных отношений после перехода к нэпу оказало влияние на социальное расслоение деревни. В середине 1920-х гг., наряду с продолжающимся действием основной закономерности – осереднячиванием (увеличение доли середняцких слоев деревни за счет бедноты), происходил некоторый рост полярных групп – батрачества и кулаков. В конце десятилетия начавшееся наступление на кулачество ускорило сокращение бедняцких дворов и «резко ослабило» кулачество.
В рамках официозной парадигмы существовала ограниченная определенными рамками возможность выявления региональной специфики процессов социальной мобильности. Применительно к Сибири она основывалась на высказываниях В. И. Ленина об относительно большей зажиточности сибирского крестьянства в дореволюционный период [1970б. С. 40], о сохранении в регионе после Гражданской войны сравнительно многочисленного кулачества [1970а. С. 59–60].
Исходя из имеющейся источниковой базы, большинство исследователей за основу социально-классового деления деревни в начале и середине 1920-х гг. брали посевные группы. При этом существовали различия в определении границ между группами по посеву при их переводе в социальные страты. В. М. Кулешов [1961. С. 15], В. Г. Тю-кавкин [1966. С. 147] относили к бедняцким хозяйства с посевом менее 4 дес., А. К. Касьян [1961. С. 12], К. Г. Чаптыков [1965. С. 56] – менее 3, Л. М. Горюшкин [1966. С. 60], Н. Я. Гущин [1973. С. 130], Ф. С. Пестриков [1962. С. 26], Е. М Хенкин [1965. С. 29], В. Е. Чаплик [1967. С. 9] – менее 2 дес. К кулацким, как правило, причислялись хозяйства, засевавшие более 10 дес. К. Г. Чаптыков опускал границу между кулаками и середняками до 9 дес. [1965. С. 56], Е. М. Хенкин – до 8–9 дес. [1965. С. 29],
-
В. Е. Чаплик – до 8 дес. [1967. С. 9]. Соответственно различными были и результаты. Так, по подсчетам Ф. С. Пестрикова, в 1920 г. кулацкими в Сибири были 13,8 % хозяйств [1962. С. 26], а по мнению В. Е. Чаплика – 17,8 % [1967. С. 9].
Очевидная недостаточность оперирования при стратификационных построениях только наличными посевными группами побудила ряд ученых прибегнуть к их корректировке. А. В. Гагарин, подсчитывая долю кулаков в 1925 г., помимо хозяйств с посевом более 10 дес. (их удельный вес в общем количестве дворов составлял 3,5 %) включил в их состав всех владельцев торгово-промышленных заведений из других посевных групп. К кулацким, таким образом, было отнесено 4,9 % крестьянских дворов (к середняцким – 56,1 , к бедняцким – 39,0 %) [1959. С. 47].
Л. И. Боженко провел группировку по пяти признакам: посеву, рабочему скоту, коровам, стоимости средств производства, он вывел из них средние арифметические данные. В результате получилось, что в 1927 г. среди крестьянских хозяйств Сибири было 34,1 % бедняцких, 56,9 – середняцких и 9 % – кулацких [1969. С. 245].
Позднее Л. И. Боженко разработал более сложную комбинационную методику. Так, устанавливая по материалам выборочной сельхозпереписи 1925 г. удельный вес бедняцкой группы, он включил в нее прежде всего дворы без посева и с посевом до 3 дес. 2 , исключил хозяйства, владевшие торговыми и промышленными предприятиями, имевшие 4 и более лошадей, а затем причислил к бедняцким хозяйства с посевом свыше 3 дес., не располагавшие пахотными орудиями, работниками, без рабочей силы, рабочего скота, коров и вообще без скота. Подобного рода перегруппировка была проведена в отношении середняцкой и кулацкой групп. В итоге доля бедняков в социальной структуре сибирской деревни в 1925 г. составила 44,5 %, середняков – 51,0, кулаков – 4,5 %. Аналогичные методики (адаптированные к особенностям базовых источников) им были применены при определении соотношения социальных групп в
1926 г. (бедняки – 39,6 %, середняки – 53,2, кулаки – 7,2 %) и в 1920 г. (см. ниже) [Боженко, 1978. С. 227–232; 1972. С. 95]. Тем не менее в основе подсчетов Л. И. Боженко по-прежнему лежала группировка по посеву.
Отказаться от нее позволяли лишь материалы гнездовых переписей 1927, 1928 и 1929 гг., в которых крестьянские хозяйства группировались непосредственно по социально-классовым группам. В основу их отнесения к той или иной группе была положена стоимость средств производства в сочетании с так называемыми социальными признаками (наем рабочей силы, сдача сельскохозяйственных машин, аренда земли). По мнению Н. Я. Гущина, подобный подход позволял достаточно точно установить социальную структуру деревни 3 . Обработка по данной методике гнездовой переписи 1927 г. дала следующие результаты: 9,8 % дворов было отнесено к «пролетарским» (батрацким), 20,4 – к «полупролетарским» (бедняцким), 63,1 – к хозяйствам «простых товаропроизводителей» (середняцким) и 6,7 % - к «мелкокапиталистическим» (кулацким) [1973. С. 132].
Изменения в соотношении социальных групп, а также групп крестьянских хозяйств по посеву использовались для определения базовых тенденций социальной мобильности. Наиболее активная дискуссия велась по вопросу об итогах социальных сдвигов в сибирской деревне на рубеже 1910–1920-х гг. В перегруппировке хозяйств в Сибири за время с 1917 по 1920 г. Л. И. Боженко видел хотя и менее масштабный, чем в европейской части страны, но все же начавшийся процесс осереднячивания, сокращения полярных групп и нивелировки крестьянства 4. Резкое падение состоятельности сибирских крестьян в 1921–1922 гг. Л. И. Боженко также выдавал, хотя и с некоторыми оговорками, за своеобразное продолжение тен- денции к осереднячиванию. На страницах 3-го тома «Истории крестьянства Сибири» он указывал на то, что, несмотря на заметное уменьшение в эти годы числа средних и многопосевных и увеличение числа маломощных хозяйств, «господствующее положение [в деревне] сохранялось за средней группой хозяйств» [Крестьянство Сибири…, 1983. С. 137] 5 . Тезис об осереднячивании деревни в указанный период разделял Н. Я. Гущин. По его мнению, «процесс осе-реднячивания деревни, который развернулся в центре России с 1918 г., в Сибири весной 1920 г. проявился в начальной стадии. Он значительно усилился в конце 1920 г., а также в 1921–1922 гг.» [1973. С. 50].
Противоположной точки зрения придерживался В. Е. Чаплик, который, как указывалось выше, относил к кулацким в 1920 г. 17,8 % крестьянских дворов региона. На основании данного показателя делался вывод о том, что «социально-экономические сдвиги, происшедшие среди крестьян Европейской России в 1917–1920 гг., не затронули сибирскую деревню» [1964. С. 7]. Снижение удельного веса дворов с посевом более 8 дес. к 1922 г. до 5,5 % исследователь также не считал показателем осереднячивания. По его мнению, данный процесс стал следствием «экономического саботажа» со стороны кулаков, которые умышленно сократили размеры посевных площадей, сохранив свой производственный потенциал [1967. С. 10; 1964. С. 31].
Подобная позиция, как полностью отрицающая действие в Сибири общероссийских закономерностей социальных сдвигов, вызвала критику со стороны Л. И. Боженко, Н. Я. Гущина и В. И. Шишкина [Гущин, 1972. С. 81, 83; Историография крестьянства…, 1975. С. 85, 126]. Н. Я. Гущин и В. И. Шишкин также критиковали позицию Ф. С. Пестрикова, который, по их мнению, «сглаживал» отличия между процессами социальной мобильности крестьянства в Сибири и европейской части страны [Гущин, 1972. С. 82–83; Историография кре- стьянства…, 1976. С. 86; Пестриков, 1967. С. 7–8].
Следует отметить, что Л. И. Боженко [1972. C. 97] и Н. Я. Гущин [1973. C. 51], анализируя социальную мобильность крестьянства в конце 1910-х – начале 1920-х гг., использовали термин «нивелировка», который рассматривался ими как специфическое проявление процесса осереднячивания 6.
В. И. Шишкин видел между осереднячи-ванием и нивелировкой существенные различия. Если первый термин означает «абсолютный и относительный рост средних слоев за счет хозяйственного подъема бедноты», то второй – «гораздо шире, так как наряду с осереднячиванием включает увеличение средних и низших групп в результате сокращения кулачества». Подобное разграничение, по его мнению, необходимо, поскольку увеличение доли середняков за счет кулаков нельзя оценивать «как консолидацию трудящегося крестьянства». В. И. Шишкин полагал, что на рубеже 1910– 1920-х гг. часть бедноты поднялась до уровня середняков. Тем не менее в сибирской деревне в этот период преобладала нивелировка, так как более половины зажиточных и кулаков перешло в средние и низшие группы крестьянства. «Экспроприированное и экономически подрезанное диктатурой пролетариата кулачество, формально оказавшееся в разряде середняков, стало в политическом отношении наиболее активным отрядом контрреволюции» [Историография крестьянства…, 1975. С. 88].
Социальные процессы в середине 1920-х гг. каких-либо дискуссий, за исключением определения границ между группами крестьянства, не вызывали. Положение о превалировании осереднячивания при некотором росте полярных групп являлось общепринятым [Пестриков, 1966. С. 6; Гущин, 1973. С. 126–127; Боженко, 1978. С. 258; Крестьянство Сибири…, 1983. С. 137]. Едиными были историки и при указании на более высокий, чем в целом по стране и большинству ее районов, процент кулачества и батраче- ства в Сибири [Пестриков, 1966. С. 7; Гущин, 1973. С. 133; Боженко, 1978. С. 259; Крестьянство Сибири…, 1983. С. 140].
Разночтения существовали в отношении периода конца 1920-х гг. Так, Ф. С. Пестри-ков рассматривал сокращение удельного веса кулацких хозяйств как непрерывный процесс, начавшийся после ХV съезда ВКП(б) [1966. С. 24]. В. Е. Чаплик утверждал, что классовая структура деревни, сложившаяся к концу восстановительного периода, сохранялась вплоть до массовой коллективизации [1960. С. 36]. Н. Я. Гущин указывал, что в 1928 г. «кулачество все еще продолжало численно увеличиваться, хотя темпы его роста, замедлились». По его мнению, начавшийся в 1928 г. процесс сокращения численности батрачества и «экономической мощи кулаков» значительно ускорился в 1929 г. [1973. С. 157, 159].
В конце 1980-х гг. начался новый этап отечественной историографии, характеризующийся отказом от идеологического единообразия, появлением принципиально новых трактовок проблем аграрного развития. При этом смена тематических приоритетов привела к практическому прекращению исследования проблем социального расслоения сибирской деревни. Исключением являются наши работы, в которых излагается оригинальная концепция социальной мобильности сибирского крестьянства (см.: [Ильиных, 1999; 2009]). Ее основные положения можно свести к следующим тезисам.
-
1. Установить четкие рубежи между отдельными стратами внутри крестьянства в силу их подвижности в историческом времени и природно-географическом пространстве практически невозможно. Даже применение относительно совершенных методик может привести лишь к условным результатам. Однако условность внутриклассовых границ не является препятствием для достаточно точного определения основных тенденций социальной мобильности крестьянства.
-
2. Социально-имущественная дифференциация крестьянства во многом детерминировалась его демографической дифференциацией (различием отдельных хозяйств по размеру и составу семьи). Малолюдное хозяйство, как правило, являлось маломощным, а многолюдное – более зажиточным. При этом крестьянское семейное дворохо-зяйство вероятностным образом проходило
-
3. В конце XIX – начале XX в. под влиянием развития рыночных отношений имущественная дифференциация сибирского крестьянства приобрела более ярко выраженный социальный характер. Но разложение крестьянства в данный период еще не стало основным типом социальной мобильности сибирской деревни, а существовало как одна и притом не самая главная ее тенденция. Базовая модель социальной динамики в ней по-прежнему определялась демографической цикличностью развития отдельных семейных дворохозяйств.
-
4. В 1917–1920 гг. основным направлением социальной мобильности крестьянства был переход в менее состоятельные группы. При этом отсутствуют основания для определения данного процесса как осереднячи-вания. В сибирской деревне действительно произошло сокращение числа зажиточных хозяйств, но в то же время доля бедноты не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Обеднячивание крестьянства, которое к 1920 г. проявилось лишь в начальной форме, значительно усилилось в конце 1920–1922 гг.
-
5. С 1923 г. в регионе началось восстановление аграрной экономики на базе нэпа, а доминирующим направлением социальной мобильности крестьянства вплоть до 1927 г. стал переход в более состоятельные группы. В это время произошло значительное увеличение удельного веса средних слоев за счет бедноты. Данный процесс можно условно определить как осереднячивание, но лишь относительно периода начала 1920-х гг. Сравнение социальной структуры сибирского крестьянства в 1916 и 1927 гг. показывает, что относительно дореволюционной нэповская деревня не осереднячилась, а нивелировалась на более низком среднем уровне. При этом и во время нэпа принадлежность крестьянского хозяйства к той или иной имущественной группе была по-преж-
- нему взаимосвязана с размерами и составом семьи.
-
6. Проводимая большевистским режимом в конце 1920-х гг. политика «чрезвычайщины» привела к очередной смене вектора социальной динамики. В 1928–1929 гг. произошло повышение доли средних хозяйств при фактическом сохранении удельного веса маломощных и резком снижении зажиточных.
ряд этапов своего развития. Молодая семья, состоящая из мужа, жены и малолетних детей, была относительно бедной. По мере вовлечения в трудовую деятельность детей происходило наращивание ее состоятельности. Женитьба сыновей и появление нескольких молодых семей в составе материнского хозяйства чаще всего приводили к его превращению в зажиточное. Раздел означал возникновение новых, значительно менее состоятельных хозяйств.
Список литературы Социальная мобильность сибирского крестьянства в 1920-е годы: историография проблемы
- Боженко Л. И. Об особенностях социально-экономического развития сибирской деревни к началу нэпа//Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири: Докл. и сообщ. науч. конф., 23-24 декабря 1968 г. Курган, 1971. С. 123-131.
- Боженко Л. И. К характеристике основных групп крестьянства Сибири после освобождения от колчаковщины//Вопросы истории Сибири. Томск, 1972. Вып. 7. С. 81-104.
- Боженко Л. И. Сибирская деревня в восстановительный период. 1921-1925 гг. (Социально-экономические процессы и их регулирование в сибирской деревне). Томск: Изд-во ТГУ, 1978. 264 с.
- Боженко Л. И. Соотношение классовых групп в сибирской деревне накануне коллективизации//Вопросы истории Сибири. Томск, 1969. Вып. 4. С. 237-252.
- Гагарин А. В. К вопросу о классовом расслоении крестьянства к концу восстановительного периода//Доклады второй научной конференции кафедр общественных наук. Томск, 1959. С. 44-48.
- Горюшкин Л. М. Сельское хозяйство Сибири в восстановительный период (1921-1925 гг.)//Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Новосибирск: Наука, 1966. Вып. 6. С. 46-69.
- Гущин Н. Я. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне (1926-1933 гг.). Новосибирск, 1972. 290 с.
- Гущин Н. Я. Сибирская деревня на пути к социализму (Социально-экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926-1937 гг.). Новосибирск: Наука, 1973. 520 с.
- Гущин Н. Я., Ильиных В. А. Классовая борьба в сибирской деревне. 1920-е -середина 1930-х гг. Новосибирск: Наука, 1987. 332 с.
- Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отношения. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Ильиных В. А. Крестьянское хозяйство в Сибири (конец 1890-х -начало 1940-х годов): тенденции и этапы развития//Крестьянская семья и двор в Сибири в XX веке: проблемы изучения: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1999. С. 33-75.
- Ильиных В. А. Социальная мобильность сибирского крестьянства: дискурс 1920-х гг.//Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 4. С. 85-89.
- Ильиных В. А. Социальные сдвиги в сибирской деревне в 1920-е гг.//Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы: историография, методы исследования и методология, опыт и перспективы. Материалы ХХХI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Вологда, 2009. Кн. 2. С. 69-79.
- Историография крестьянства советской Сибири/Л. И. Боженко, Н. Я. Гущин, В. И. Шишкин и др. Новосибирск: Наука, 1975. 478 с.
- Касьян А. К. Сибирская деревня в 1926-1929 гг. (Материал для обсуждения на сессии по истории советского крестьянства и колхозного строительства в СССР). М, 1961. 25 с.
- Крестьянство Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.). Новосибирск: Наука, 1983. 390 с.
- Кулешов В. М. Социально-экономическая и политическая обстановка в Сибири в период перехода от гражданской войны к мирному строительству (конец 1919 -1924 г.)//Труды кафедр обществ. наук Новосибирского электротехнического ин-та. Новосибирск, 1961. Вып. 2. С. 3-27.
- Ленин В. И. X съезд РКП(б). Доклад о замене разверстки натуральным налогом//Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1970а. Т. 43. С. 57-73.
- Ленин В. И. Современное положение и ближайшие задачи Советской власти//Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1970б. Т. 39. С. 30-43.
- Пестриков Ф. С. Борьба партийных и советских организаций Сибири за восстановление сельского хозяйства и осуществление ленинского кооперативного плана (1920-1927 гг.)//Из истории партийных и советских организаций Сибири. Новосибирск, 1962. С. 6-55.
- Пестриков Ф. С. Партийная организация Западно-Сибирского края в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства. 1927-1937 гг.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1967. 48 с.
- Пестриков Ф. С. Партийные организации Западной Сибири в борьбе за победу колхозного строя (1927-1937 гг.). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. 158 с.
- Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня накануне Октября (К вопросу формирования социально-экономических предпосылок социалистической революции). Иркутск: Вост.Сиб. кн. изд-во, 1966. 471 с.
- Хенкин Е. М. Некоторые вопросы классовой дифференциации крестьянства Сибири в период перехода к новой экономической политике (1921-1922 гг.)//Тез. докл. преподавателей кафедр обществ. наук Новосибирского инженерно-строительного ин-та. Новосибирск, 1965. С. 29-30.
- Чаплик В. Е. К вопросу о социальной дифференциации сибирского крестьянства 20-х годов//Материалы межкафедр. конф. Новосибирского мед. ин-та. Новосибирск, 1967. С. 5-12.
- Чаплик В. Е. Новониколаевская губернская парторганизация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства (1920-1925 гг.). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. 100 с.
- Чаплик В. Е. Сибревком -орган диктатуры пролетариата//Деятельность Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома в 1919-1925 гг. Новосибирск, 1960. С. 3-43.
- Чаптыков К. Г. Деятельность партийных организаций Сибири по кооперированию крестьянства (1921-1927 гг.). Абакан: Красноярск. кн. изд-во, 1965. 120 с.