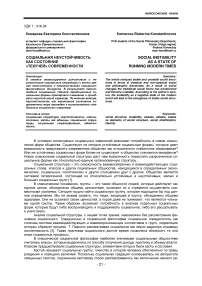Социальная неустойчивость как состояние «текучей» современности
Автор: Комарова Екатерина Константиновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются устойчивые и неустойчивые социальные структуры с точки зрения классического и неклассического социально-философских дискурсов. В результате произошедших социальных сдвигов традиционные социальные формы претерпели изменения и приобрели неустойчивый характер. По мнению автора, неустойчивость как негативное состояние современного мира приведет к возникновению стабильных социальных структур.
Социальная структура, неустойчивость, классы, сословия, касты как единицы социальной структуры, социальная стратификация, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14934578
IDR: 14934578 | УДК: 1
Текст научной статьи Социальная неустойчивость как состояние «текучей» современности
В условиях интенсивных социальных изменений возникает потребность в новом осмыслении форм общества. Существуют ли сегодня устойчивые социальные формы, которые дают возможность представлять современное общество как относительно стабильное образование? Или же устойчивых социальных форм более не существует и общество становится аморфным? Новое осмысление социальной структуры даст нам возможность помыслить разрозненные социальные формы как относительно единую организованную структуру.
Социальная структура – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных слоев, классов и других социальных общностей, находящихся в определенных экономических, социальных, политических и других отношениях друг с другом. Общество является системой гетерогенной, состоящей из относительно устойчивых и неустойчивых, малых и больших социальных групп [1].
В классическом понимании, группы – это такие общности людей, которые действуют как единое целое, объединены общими ценностями, осознают их и стремятся осуществить совместными усилиями. Сегодня трудно найти социальную группу, которая подходила бы под данное определение. Мы не можем сказать, что люди, входящие в группу, объединены общими идеалами. Они не осознают своих ценностей, а порой даже не понимают, что являются членами одной группы. Таким образом, возникает потребность в анализе отдельных социальных форм, которые будут либо воспроизводить и поддерживать социальное, либо его расшатывать и уничтожать.
Анализ социальной структуры, с нашей точки зрения, невозможен без рассмотрения феномена социального. Традиционно в социальной философии социальное определялось как сложная система взаимодействующих и взаимопроникающих коллективов и групп, корреляция которых образует процесс. Т. Парсонс рассматривал социальное как некую заданную индивиду коллективность [2]. Такая трактовка социального долгое время позволяла объяснить те или иные социальные процессы.
В классической социальной философии наиболее значимыми социальными общностями считались классы, которые выделялись по способу получения дохода, престижу и объему власти. Классам предшествовали социальные структуры, элементами которых были касты и сословия.
Кастой называют социальную группу, членство в которой человеку обеспеченно по праву рождения и освящено религией. Поскольку социальная градация основывалась на авторитете священных текстов, подчинение кастовому строю рассматривалось как исполнение некоего ре- лигиозного ритуала, который предполагал строгое выполнение функций, закрепленных за данной группой. Нужно было строго следовать ритуалу, чтобы удержать в себе бога и сохранить стабильность вне и внутри себя [3].
Для сословной организации общества также характерна строгая иерархия. Сословия фиксируются юридически, неравное положение граждан объяснялось законами, по которым одни члены общества имеют больше прав, а другие больше обязанностей. Люди, которые оказывались вне привилегированных групп, являлись в некотором роде ущербными, а те, кто занимал главенствующее положение, признавались благородными. Поэтому принадлежность к сословию определяется преимущественно через категории «честь», «гордость» по отношению к собственному сословному статусу и происхождению.
В описанных системах за каждой кастой и сословием были закреплены определенные виды работ, с которыми, как полагалось, наилучшим образом может справиться данная группа. Деятельность здесь определялась не личным выбором, а была предназначена обычаем и / или ритуалом. Труд считался коллективным делом, и сферы труда закреплялись за отдельными социальными группами, к которым по неизбежности относился каждый.
С развитием рынков сословная система вытесняется классовой. В.И. Ленин писал о классах: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» [4, с. 15]. Согласно марксистской теории, основу социальной структуры общества составляют классы, напрямую связанные с развитием частной собственности, которая порождает экономическое неравенство людей. Соответственно, в социальной структуре можно выделить экономически господствующий и экономически зависимый классы.
Однако в ХХ в. все более ощутимую роль в формировании социальной структуры начинают играть общественные группы, которые мы условно назовем культурно-символическими. Они подчеркивают культурное различие, стоящее за существующей системой экономического неравенства. Данные группы формировались на основе гендерных, религиозных, этнических идентичностей. Согласно М. Кастельсу, идентичность представляет собой «процесс конструирования смысла на основе определенного культурного свойства или соответствующей совокупности культурных свойств, которые обладают приоритетом по отношению к другим источникам смысла» [5, с. 42]. Люди, имея сходный жизненный опыт в зависимости от пола, цвета кожи и религиозной позиции, то есть тех факторов, которые они не в силах изменить, объединяются в единую группу, отстаивая собственные интересы. Эти интересы зачастую оказывались более важными, чем классовые. В сложившейся ситуации внимание социальных философов и социологов стали привлекать, наряду с классами, и новые слои, иная система неравенства. Так возникала теория социальной стратификации, которая дополнила классовую теорию, являясь более универсальной и многофакторной.
«Социальная стратификация, - пишет П.А. Сорокин, - это дифференциация некой данной совокупности людей на страты, слои в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность - в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности...» [6, с. 54]. Неравное распределение благ, на которое указывает П. Сорокин, является моментом отчасти несправедливым, но необходимым, ведь социальное неравенство является главным фактором, обеспечивающим жизнеспособность социальной системы. При этом стремление к выравниванию положения культурносимволических групп и групп, формирующихся на экономической основе, подорвало устойчивость классических структур, считавшихся долгое время незыблемыми.
Произошедшие социальные сдвиги изменили облик социального. Оно больше не может пониматься как некая анонимная, объективно-заданная форма, объединяющая людей в единую социальную группу. Положение социальной группы начинает зависеть от индивидуальной позиции каждого отдельного ее члена. Там, где люди проявляют осознанное групповое взаимодействие, там и реализуется социальное. Там, где это отношение не осуществляется, социальное не проявляет себя.
Когда же сама система задает логику развития социальным группам, определяя их место в системе общественных отношений, тогда ущемленные группы начинают проявлять недовольство и требовать пересмотра сложившейся иерархии. Однако атака на социальную иерархию не сломала ее, а привела лишь к усложнению. Защита прав каждой этнической и расовой группы привела к тому, что право на самоопределение стала отстаивать любая социальная группа, даже та, которая носит маргинальный характер. В то же время традиционные религиозные, эт- нические, гендерные позиции, определявшие социальное положение каждого, претерпели изменение, оставив человека без культурных ориентиров.
Примером таких сдвигов в обществе и в теории явилось теоретическое переосмысление сложившихся гендерных и половых отношений, в результате чего понятие гендера существенно трансформировалось. Одним из вариантов пересмотра гендера и пола явилось обращение к идее андрогинности, которая послужила основой формирования нового типа плавающей идентичности.
Андрогинами называли мифических существ, сочетавших в себе мужскую и женскую сущности, все совершенное, что определяло обе противоположности. Андрогин – один из персонифицированных символов культуры, который представляет собой мировую гармонию. Андрогинность как явление, при котором человек одновременно проявляет – необязательно в равной степени – женские и мужские качества, очень характерно для современной культуры. Только современный андрогин уже не является мифологическим героем, сочетающим в себе совершенство обоих полов, он становится вполне реальным человеком, не осознающим своих гендерных позиций. Такое пренебрежительное отношение к своей гендерной роли делает эту форму идентичности подвижной. Массовая культура стерла казавшиеся непреодолимыми различия между гендерными группами. По мнению К. Юнга, в современном обществе произошел сбой архетипов, мужчины феминизировались, женщины приобрели маскулинные черты. Таким образом, современная культура не разрешила, а обострила гендерные противоречия. В современной культурной парадигме концепт андрогинности представлен как девиантный, указывающий на общественную нестабильность.
На первый взгляд, этнические группы являются самыми стабильными. Людей, входящих в единый этнос, может разделять друг с другома многое, но им свойственна внешняя схожесть, благодаря которой один может смотреться в другого и видеть в нем себя. Такая проекция этноса задает через образ другого любовь к самому себе, а следовательно, форму самоидентификации. Но этнические группы, имея природное происхождение, легко натурализируются, давая выход человеческой «зоологии». Когда социально-культурные механизмы перестают выполнять свои сдерживающие функции, тогда выход негатива, закрепленного в группе, становится неуправляемым. Религия как форма культуры была призвана сдерживать негатив натурализи-рованных этнических групп, но, подкрепленная этническим фактором, она, напротив, начинает выступать весьма активной формой, разделяющей людей более четко: человек может быть полурусским или полутатарином, но он не может быть полуправославным или полумусульманином. Чрезмерная жесткость религиозно-этнических групп сделала данную форму идентичности негативной. Этим и объясняется тот факт, что наиболее жестокие конфликты современности возникают именно на религиозно-этнической почве. Примерами могут служить война между Ираком и Ираном, зашедший в тупик конфликт между Палестиной и Израилем. Внутренняя стабильность религиозно-этнических групп оборачивается в итоге социальной неустойчивостью. Социальное при этом не поддерживается, а наоборот, расшатывается, обнаруживая небезупречность современных культурных механизмов.
Неустойчивость проникает во все сферы человеческого бытия. Желая чувствовать себя в безопасности, люди ищут общности, к которым они хотели бы принадлежать без остатка, так возникает такая социальная форма, как сообщество. Сообщества – малые группы, создающиеся на основе межличностных отношений, исходя из некоего возникшего интереса. Они формируются стихийно, иррационально, представляя собой некое спонтанное образование. Неожиданно возникнув, оно также быстро может умереть. Такая недолговечность сообщества объясняется тем, что оно не направлено на производство общественных связей. Сообщество представляет собой застывшую целостность отрешенных людей. Тоска по безнадежно утраченному сообществу, возможно, является тоской по обществу, в котором каждый мог найти пристанище. Таким образом, современное общество, которое З. Бауман называет «текучей современностью», не направлено на создание прочных социальных отношений. В ситуации «текучей современности» жизнь каждого характеризуется избыточной мобильностью, она определяется постоянной сменой профессиональной деятельности, места работы, созданием и разрушением дружеских и любовных связей.
Итак, сегодня перед социальной философией стоит задача выработки понятий, которые дадут возможность зафиксировать максимальное состояние нестабильности в социальных системах . Зафиксировав теоретически крайнюю степень расшатанности социальных систем, мы сможем какое-то время удерживать их от дальнейшего распада. Неустойчивость как негативная характеристика «текучей» современности является состоянием преходящим, которое повлечет за собой возникновение относительно стабильных социальных структур. Пока же мы можем сказать, что неустойчивость является главной константой современного мира.
Ссылки:
-
1. Ильин В.И. Социальное неравенство. М., 2000.
-
2. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.
-
3. Васильев Л. С. История религий востока. М., 1986.
-
4. Ленин В.И. Собрание сочинений. Т. 39. М., 1963.
-
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
-
6. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
Список литературы Социальная неустойчивость как состояние «текучей» современности
- Ильин В.И. Социальное неравенство. М., 2000.
- Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.
- Васильев Л.С. История религий востока. М., 1986.
- Ленин В.И. Собрание сочинений. Т. 39. М., 1963.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.